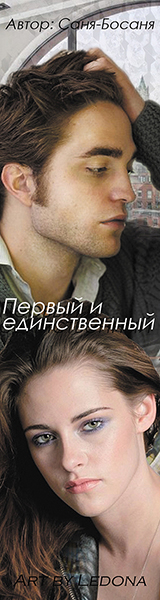Женщина, похожая на ветер
Ϟ
She's like the wind through my tree
She rides the night next to me
She leads me through moonlight
Only to burn me with the sun
Living without her
I'd go insane Если бы у Сириуса Блэка спросили, на каком чертовом году его чертовой жизни он влюбился в Эшли Джонс, в ее огромные, вмещающие, казалось, целый мир глаза, он бы ответил «не знаю». Он действительно не знал. Быть может, еще в самом Начале Начал, когда Хогвартс-Экспресс, выпуская пары дыма в воздух, весело приближался к его новой, свободной жизни, – в том, что школа обещала свободу, Сириус не сомневался. Тогда мальчишка с еще короткими вздорными волосами раздраженно пыхтел, таща чемодан со змееподобными ручками по узкому коридору. Сестра-одногодка, клятвенно обещавшая помочь с нахождением места (тогда юный Блэк еще был привыкшим держаться за спиной своих родственников), куда-то смылась, оставив брата одного. И внезапно он налетел на низенькую девчонку с курносым носом, усыпанным веснушками, и просто несоизмеримыми ореховыми глазами, в которых плясали отблески тусклого цвета от ламп. Уже тогда Сириус был воспитан джентльменом; он, помнится, галантно шаркнул ногой, ударившись большим пальцем ноги о треклятый чемодан, и представился. Она тогда засмеялась (чем-чем, а именем похвастаться парень не мог), и в ответ назвала свое имя. Его посетила дурашливая мысль – мы так подходим друг другу. Потому что Эшли Амелия Сара Жанна Джонс – это ничуть не лучше, чем Сириус (идиотическое, абсолютно не мужское имя, «педерастическое», как позже окрестит его Джеймс) Блэк. А потом она сделала нечто странное – протянула вперед тонкую руку с обгрызенными ногтями. Странно – ни его многочисленные родственники, ни знакомые так не делали. Этот жест считался не аристократическим. И, приняв рукопожатие, Сириус посадил в себе росточки принципа, который чуть позже станет правилом всей его жизни.
«Назло». Жить назло (порой не как хочется, главное, назло) стало его главенствующей целью. Он многое потом сделал назло. Познакомился с будущими лучшими друзьями назло; стал игнорировать чистокровные задницы в Хогвартсе, общаясь с другой, загрязненной половиной назло; даже умолял Волшебную Шляпу отправить его на любой факультет, даже к простодушным тупицам, только не на фамильный Слизерин тоже назло. Чтобы мать знала, что ее сына нельзя гладить против шерсти, как она это делала все его детство. (К слову – первой его девушкой стала обычная магла, увлекавшаяся потусторонними силами, жившая в одиннадцатом доме. По соседству. Она всегда с жаром рассказывала ему, что отсутствующий дом номер двенадцать – портал между мирами, притом невидимый. Затем Сириус свысока, как и полагается аристократам, оповестил ее, что она была категорически неправа, и уже совсем по-простому назвал дурой. Она обиделась, и отношения как-то сразу пресеклись. Встречая его на улице, она начала поджимать губы, а еще постаралась, чтобы ни одна красивая жительница улицы Гриммо не соглашалась пойти с ним на свидание).
А потом Эшли Джонс, взметнув короткими каштановыми волосами, минула его. Он помнил – до сих пор – аромат, который витал в воздухе, которым она дышала. Так в его понимании должно пахнуть лето – сбивающая с ног, точно хмельная, свежесть, и будто бы разрезанное, сочащееся соком яблоко. А он чуть ошалело завернул (была, не была) в ближайшее купе. И сразу понял: поездка будет не из легких. Правда, ошибся. Потому что взъерошенный мальчишка с непокорными вихрами и в дурацких круглых очках, раздраженно смотрящий на соседей (рыжая девчонка с наэлектризованными волосами и хиляк с немытыми патлами), станет его лучшим другом. Сразу между Сириусом Блэком и Джеймсом Поттером завязался разговор, нашлись общие знакомые, интересы – даже метла у парней была одинаковая. Уже тогда они впервые объединились против противной девчонки с ее верным обожателем, которые пятью минутами позже покинули купе. Сириус так и ждал, что она скажет своему дружку: «К ноге!». А к ребятам присоединились еще двое, – подвижный непоседа с залитой гелем прической, иногда глупо шутивший (Долгопупс! – в школе их ждал Клуб Носителей Дебильных Имен), и немного печальный парень с пофигистичным лицом (Ремус Люпин, – какие нормальные родители так назовут сына, еще и в сочетании с фамилией?).
Удивительно, но Фрэнк, Джеймс и Сириус, схожие по темпераменту, довольно легко нашли общий язык со своим соседом. В самом начале тот не выражал ни малейших признаков жизни – Сириус думал потыкать в него палочкой, – но потом неугомонный Поттер добил его. Спустя час они вчетвером хохотали над одинаковыми шутками и оживленно дискуссировали на самые разные темы. А еще позже к ним робко поступался маленький, пухлый, чуть похожий на крысу мальчик с водянистыми глазками (Петтигрю – новых учеников отбирали по критерию «самая идиотическая фамилия?). На раскрытие этого орешка им потребовалось от силы пять минут.
Больше всех чесали языком Джеймс и Фрэнк, видимо, будучи абсолютными экстравертами, Сириус тогда еще немного сомневался в правильности выбора компании (Мерлин, какой же мелочной девчонкой он был!), Питер все время ржал, – именно ржал, смешно дрыгая ногами, а Ремус изредка выдавал нечто умное. И в какой-то миг Сириуса посетила простая мысль: он счастлив. Ему не нужно брюзжащей матери, не нужно давящих и лишающих кислорода фамильных стен, не нужно сомнительных и до мозга крови чистокровных друзей. Ему и так хорошо. И он наконец может быть собой, может вырастить огромные крылья и взлететь, парить в небесах. Хотя Джеймс был бы против такого сравнения. Сказал бы: на метле.
А потом был Хогвартс. И он понял: эти каменные стены заставлять дышать его полными легкими, делать широкие, размеренные вдохи. И этим свободным воздухом он все равно никогда не насытится. Была Волшебная Шляпа, пропахшая пылью и затхлостью, нахлобученная на его голову. И хриплый, каркающий, напоминающий старого волшебника с трубкой у камина, как их изображают магглы, голос. До сих пор в его голове тот краткий диалог отпечатался, будто вырезанный ножом на коре головного мозга. Он не мог и не хотел забывать.
– Так-так... Еще один Блэк. Сколько противоречий… Необычайное честолюбие, храбрость, готовность совершать безумные поступки, неутомимая гордость и некоторое высокомерие, тонкий ум и абсолютная лень, смешивающаяся с неизмеримым желанием учиться. И куда же…
– Только не в Слизерин.
– Нет? Почему? – Казалось, Шляпа спросила из чистой вежливости, а на самом деле все прекрасно понимала сама. – Все твои родственники учились там.
– Я – не все. Я не хочу.
– А еще огромное желание утереть нос своей семье. О да, я вижу. Но учти – сейчас ты делаешь один из самых важных выборов в твоей жизни. От этого зависит твоя судьба, твои отношения с людьми, твое место в обществе, твой…
– Не в Слизерин, – нетерпеливо перебил он, думая, что, наверное, сидит как дурак на этом табурете дольше всех. – Можете даже в Пуффендуй меня отправить!
– Даже в Пуффендуй? Почему ты так отзываешься об этом факультете? – в голосе старой Шляпы сквозил интерес. – Пенелопа была хорошей женщиной.
– Я вам верю, да. Но…
Он услышал тогда странный каркающий звук – Шляпа смеялась.
– Хочешь от меня отделаться, да? Что ж, этот факультет несомненно подходит тебе… ГРИФФИНДОР!!!
Оглушающий рев ударил в уши, и он приподнялся, чуть покачиваясь. И впервые стол не рукоплескал; в зале повисла полнейшая тишина. Он видел такой испуганный, до мурашек, взгляд Нарциссы, смотревшей на него со своего Слизеринского места; наверняка перед глазами практичной сестры являлись самые страшные картины, и уж точно среди них – отрубленная голова Сириуса, висящая на фамильной стене рядом с головами домовиков. И Сириус внезапно почувствовал злорадство. Он любил сестру, но ее соседей презирал. И вот сейчас он медленно шел к красному столу; люди, сидевшие за ним, начинали медленно хлопать. На лице многих человек уже расцветала улыбка, Джеймс Поттер ожесточенно махал из толпы, и мальчик понял: сейчас он дома. У него появилась настоящая семья. И несколькими минутами позже он уже вовсю болтал с той компанией из поезда, загремевшей на Гриффиндор в полном составе. И восхищался каждой увиденной вещью, точно дитя, никогда не видевшее волшебства. Внезапно он поймал взгляд Эшли Джонс и сглотнул. Появилось приятное ощущение, будто впереди что-то очень хорошее.
И Сириус не ошибся: впереди его ждала потрясающе хорошая жизнь. День сменялся все новым днем, знания – очередными знаниями, знакомые – все более интересными знакомыми. Вот только он практически сразу понял: неукротимый Джеймс, и меланхоличный Ремус, и смешливый Питер – его кровь; люди, которые с ним будут от начала и до конца. Он не мог ошибиться в этих друзьях, просто не мог. Каждая их вылазка, проводимая под лозунгом «не попасться», каждая общая шутка, каждая проделка сближала их не по дням, а по часам. И профессора уже спустя месяц с каким-то милым дружелюбием относились к их четверке. Он знал – многие уважают то, что двое непоседливых мальчишек взяли под крылышко бывшего бы без них одиноким Питера и печального Ремуса. Хотя кто кого под крылышко взял – еще вопрос. Ремус оставался их холодным умом, их совестью, их рассудительностью. Общими.
А потом произошло нечто такое, что связало их на всю жизнь. Ведь они отнюдь не были глупыми, и отлучка Люпина в каждое полнолуние (именно в этот период то заболевали родственники, то он сам) настораживала. Кусочки головоломки как-то сложились сами собой. И Ремус, отчаянно бледнея, и видно было – боясь, изложил им свою историю. Сириус был обижен на него, потому что он, как и каждый из них, понял: парень думал, что ребята бросят его, перестанут дружить. Джеймс осознал все это быстрей всех и мрачно произнес «Отделаться от нас хотел? Ага, сейчас. Не дождешься». И все дружно рассмеялись, а в конце третьего (третьего, черт его дери, курса!) весело бегали по лугам. И плевать на каждодневные испытания самого себя. У них получилось, они объединились, готовые разделять не только радость, но и боль. Настоящая, непоколебимая дружба.
И была еще Эшли Джонс. Сириус большей частью старался не думать о ней, о ее, черт бы их побрал, огромных глазах, в которых отражалась любая ее мысль. Но не получалось. Ведь он всегда легко ее понимал, и это притягивало. Каждая ее частичка находилась у него будто на ладони, и никого он не чувствовал так, как ее. Даже лучшего друга. Он не знал, почему. Что в ней было такого? Вовсе не общительная, она предпочитала дружить только с девчонками, которые всегда так странно хихикали, когда он подходил. А он подходил. Не знал, почему. Просто если задать вопрос первым, то Эшли нельзя было остановить. Она говорила, говорила, говорила, увлеченно жестикулируя, и в огромных глазах горел огонь. Он любил эти моменты. Ему нравилось сидеть, скажем, в общей гостиной и просто слушать болтовню. Можно даже не вникать в смысл. Просто следить за интонациями, за улыбками, за смехом, за бесконечно щелкающими пальцами (дурная привычка – говорила она). А еще она любила спорить. Обязательно с ним; по крайней мере, Сириус ни разу не слышал, как она ведет дискуссию с кем-то другим. Противоположности, плюсы и минусы, притягиваются. Наверное, в этом все дело.
Иногда – совсем иногда, – Эшли Джонс его раздражала. Тогда. Раздражал громкий, лошадиный смех, вырывавшийся из ее груди почти всегда. Казалось, что ее развеселить может что угодно и кто угодно – даже банальное замечание, даже самая пустячная шутка, даже простое шевеление мизинца. Раздражало то, что она всегда пила кофе, и ее волосы, шея, дыхание, всегда напоминавшие ему о летней свежести, насквозь пропахли терпким ароматом этого напитка. К тому же, она занималась чистым мазохизмом – пила исключительно крепкий, без молока, даже без сахара. Раздражала эдакая манерность в стиле его чертовой семьи – а на семью он к тем временам порядком насмотрелся, и наблюдать вновь не желал, нет уж, увольте. Она будто всегда пыталась сменить свое оперение, используя целую системы самых разнообразных аристократических жестов и науку положения пальцев и головы строго по градусным мерам (определенное количество восточной долготы и западной широты; как же иначе?). Раздражала неприкрытая кокетливость, вечные неуместные ужимки и попытки смеяться – как это зовется в высокой литературе? – мелодично. И ей было плевать на то, что понятия «смех Эшли Джонс» и «мелодичность» – полнейшие антонимы.
Сириус же прекрасно понимал, что производит именно такое впечатление, которое было нужно ему. С первых своих шагов по извилистым коридорам Хогвартса он, казалось, только лишь постепенно, сантиметр за сантиметр, приклеивал и прилаживал на свое лицо удивительную маску. Маску эдакого ленивого, небрежного аристократа, способного влиться в любой коллектив и превращать каждую вещицу в полнейшую насмешку; маску всеобщего школьного друга, чьей поддержкой можно заручиться в любой момент, с кем всегда можно сесть в Большом зале и обсудить последние сплетни; маску неискоренимого ловеласа, говорившего, смеявшегося, улыбавшегося только так, как нужно. Никто, кроме самых близких друзей, его четверых Мародеров – неугомонного, искрящегося энергией Джеймса, мудрого и понимающего Ремуса, такого дурашливого Питера, – никто не получал пропуск за завесу неискренности, окружавшей Сириуса Блэка. Ни один человек в огромной школе не хотел (да и не мог) понять его, не мог даже постараться проявить участие, заинтересованность в глупо звучавшем вопросе «какой он – этот Блэк?». Люди довольствовались тем, что видели – а видимое их вполне устраивало. Ему порой казалось, что окружающие знают о нем все, абсолютно, без исключений, кроме небольшой мелочи – его настоящего характера. А Эшли с ее огромными глазищами и неуемным любопытством к миру читала его, будто книгу; она с легкостью могла объяснить любое его действие: почему он пошел туда, почему произнес ту фразу, почему в данной ситуации поступил так. Его пугало то, что она с такой легкостью сорвала с него годами сотворенную маску – сорвала и не стала делать вид, что это не так. В ее привычках было дерзко сообщать ему, словно заученный урок, из-за чего он провел свой день так, а не иначе. Она не стеснялась дразнящей прямоты – он всегда считал, что Эшли Джонс вообще не подозревает, что это за слово такое – смущаться. Она не боялась чужого мнения, ей, в сущности, было плевать, что говорят и думают о ней другие. Она лишь делала то, что хотела, чем жила и дышала, однако неизвестно зачем стремилась меняться с каждым днем. В понедельник она была совсем другая, нежели в среду; он догадывался, почему – Эшли находила увлекательным притворяться разной, чтобы никто не мог понять, какая она на самом деле, влезть в ее душу и оставить в ней рваные дыры. Если ты разрешаешь обществу легко понимать тебя, если ты пускаешь толпу людей в самые задворки своего сознания с простотой, то ты сам позволяешь им истоптать тебя в клочья, оставляя следы от грязных башмаков; сам заносишь над своей головой меч, да и, не стоит отрицать – сам его опускаешь. Он считал ровно точно так же. Просто удивительно, как два человека могут быть столь разными, но и столь похожими одновременно. И, вероятно, продолжая список причин на тему «почему Сириус Блэк влюбился в Эшли Джонс», он бы записал туда еще пару пунктов: за то, что она сумела его понять, и за то, что дала ему понять себя.
Да, она понимала все, кроме одной очевидной вещи: он, глупец, говоривший с Джеймсом, что никогда не влюбится (и уже тогда крививший душой с завидным искусством), влюбился в эту девчонку окончательно и бесповоротно. Именно девчонку, с обкусанными ногтями, взлохмаченными волосами, дурацким смехом и огромными ( черт бы их побрал) глазами. Она не тянула на девушку, была непохожа на холодных кокеток, корчивших из себя леди и завивавших ресницы волшебными палочками. Он насмотрелся ледяной идеальности в жизни, замечая ее во всех дутых аристократках, чистокровных и богатых, которых подсовывала ему мать. А Эшли была другая. Она была посредственная, самая обыкновенная, не особо красивая, не особо общительная – вообще, не особо. Как бы ни старалась это изменить фальшивыми ужимками – и все равно, даже они смотрелись как-то по-другому, нежели когда их использовали прочие девушки. И именно это делало ее лучшей среди них, жемчужиной среди мелких, грязных песчинок в его глазах.
Так и существовала их сомнительная дружба. Сомнительная не только потому, что он безнадежно был в нее влюблен. Дело было в том, что она отделяла период жизни в Хогвартсе от существования в маггловском мире, когда она еще не получала письма. Странно, он даже не знал дату ее рождения, и, вероятно, пару раз бесчеловечно пропустил этот момент. Он не знал, как зовут ее родителей, где она живет и в каких условиях она росла. Она лишь появлялась на платформе с неизменно небрежно собранными в конский хвост волосами (иногда локоны выпадали из прически и падали на лицо, а она сердито их сдувала), и исчезала там же, на прощание крепко прижимая к себе друзей и растворяясь в кирпичной стене. Остальное же время она всецело принадлежала ему, со всеми ее мыслями, чувствами и характером, с ее улыбками, болтовней и порой нелепыми рассуждениями.
Он никогда с ней встречался. При мысли о том, что нужно подойти к Эшли Джонс и пригласить ее в Хогсмид – да хоть куда-нибудь! – душа уходила в пятки. Столько раз он глупо представлял, как она опускает ресницы и отвечает «я согласна», и сколько раз вместо заветных слов у него с языка срывались вопросы о домашних заданиях. Чертовых домашних заданиях. Джеймс этого не понимал: он считал абсурдом стесняться какой-либо девушки. Сохатый вообще никогда не имел особых комплексов; ему ничего не стоило заговорить с любым, даже незнакомым, человеком любого пола. А Сириус не по всем был похож на Джеймса. Он всегда мог лишь болтать с ней о любой ерунде, мог жаловаться ей на происходящее, мог беседовать о минувших за день событиях, мог даже флиртовать. Но пригласить на свидание? Нет, никогда.
Именно так началось то состояние, которое сам парень окрестил «бродяжничество». Он, прекрасно осознавая, что является вполне красивым молодым человеком (ни дня не проходило без долгого, оценивающего взгляда в зеркала и бесконечного изучения волос, лица, тела), беззастенчиво пользовался этим своим преимуществом перед другими учениками. Он в прямом смысле метался от девушки к девушке, в каждой из них ища что-то, что могло бы ему напоминать об Эшли Джонс – и все было не так. Не тот курносый нос, не те взлохмаченные волосы, не те поцарапанные руки, не те глаза. Он прыгал в этот омут с головой, не мог надышаться бесконечными подружками, которые вели себя так глупо, так неестественно, настолько неправильно и не похоже на нее, что он взрывался и оставлял их за спиной. И все равно – продолжал бродяжничать. Именно эта идиотическая привычка и повлияла на выбор его клички.
Клички… Анимаги. Он прекрасно помнил тот момент, когда ночной воздух разорвался ликующими криками двух мальчишек, у которых получилось превратиться в животное. Сириус не мог забыть трепещущее ощущение, пробежавшее по телу, по позвоночнику, как по тонкому каналу; не мог забыть внезапное чувство какой-то нечеловеческой радости, легкости; позже они все сошлись во мнениях – это была свобода. Удивительно – они с Джеймсом были настолько похожи, настолько понимали, чувствовали друг друга, что даже стали анимагами в один момент, вплоть до секунды. Дружбой с Джимом он всегда дорожил куда больше, чем с остальными; Сириус просто знал, что этот паренек с вечными вихрями волос будет рядом с ним в любой ситуации, какой бы страшной она не была. Он знал, что, когда бы он ни повернулся, всегда в его поле зрения будет оставаться Поттер, непоседливый, будто бы вечно с шилом в заднице, готовый падать с деревьев с эпичными хрипами, и вечно попадать в неприятности, если Сириуса не будет рядом. Все объяснял как-то случившийся между ними обмен репликами – тогда еще Джеймс забрался на старый дуб в своем саду, громко крича «смотри, как я умею», и рухнул с трехметровой высоты, что-то истошно вопя на лету.
– Ну почему, – устало спросил Сириус, останавливая кровь, – ты всегда ищешь неприятности?
– Я их не ищу, – пробурчал Джеймс в ответ, от нетерпения подергивая ногой, – это они меня ищут.
– Одевай мантию, – посоветовал тот.
– Они все равно найдут, – и на лице несносного парня расцвела улыбка. – Это же весело, чувак!
– Очень, – поддакнул Сириус, отнимая от лица друга пропитавшийся кровью моток ваты, – обхохочешься. Просто катаюсь по траве от смеха.
Это было перед началом четвертого курса. Знаменательного четвертого курса, на котором настала очередь Сириуса отыгрываться на Поттере. Дело было в одной симпатичной рыжеволосой девушке, появившейся на платформе. Сириус окинул ее ленивым взглядом и не успел даже подумать о том, кто это и насколько она хороша. Неподалеку от нее Эшли Джонс тащила за собой чемодан с отскочившим колесом, и все мысли покинули его голову. Он, помнится, глупо бросился к ней, глупо поздоровался, глупо выхватил чемодан и больно приложился об него ногой. Он все рядом с ней делал глупо и неуклюже, забывая о безупречном образе аристократической задницы, оставаясь лишь собой. А часом позже Джеймс заведет с ним разговор о мифической «новенькой» с «волосами, как у Эванс». Сириус присмотрится к предмету длительного обсуждения и расхохочется. Лили Эванс с волосами, как у Лили Эванс! Джеймс поразительно слеп, думал он, вытирая выступившие от смеха слезы и с трудом находя в себе силы поздороваться с недоуменной студенткой.
И с тех пор повелись бесконечные и немного даже бессмысленные разговоры об Эванс. Сириусу было плевать. Подруг Эшли он не замечал, его раздражало их глупое хихиканье, раздражало то, что они наверняка сплетничали о нем, – он же не знал, что Эшли никому не рассказывала об их дружбе и никогда не отвечала на многочисленные вопросы сплетниц. А Поттер с тех пор только и делал, что говорил о ней. «Эванс сделала то-то, сказала мне то-то, пошла туда-то, поговорила с тем-то». Как хронометр событий в жизни Лили. В итоге, благодаря неутомимым стараниям Джеймса его однокурсница начала дико Сириуса раздражать. Слишком уж сильно ему ей выносили мозг. Он даже представить не мог, что спустя несколько лет будет считать ее самой лучшей подругой, которая лишь может существовать. Он же не провидец, в прорицания не вникал никогда, лишь раз за разом, садясь с друзьями в угол гриффиндорской гостиной, выдумывал мифические события, произошедшие с ним во снах. Какая ирония судьбы – ему никогда не снились сны, он в них не верил, а потом... Но да, потом. Это «потом» находилось на отрезке его жизни чуть позже.
А затем был пятый курс. Когда он думал о пятом курсе, сердце нелепо, нервно и глупо дергалось. Была рождественская вечеринка Гриффиндора, он впервые напился, как и другая десятка студентов, и, помнится, выкарабкался через Полную Даму в темный коридор, пытаясь восстановить правильное осязание мира. Убегавший в сторону проход странно кривился, плавно покачиваясь то вправо, то влево, и перед глазами мерцали странные звезды. А потом душа ушла в пятки – следом за ним из проема вышла Эшли Джонс, странно, таинственно улыбавшаяся. Он махнул ей рукой, что-то нелепо пробурчал и сделал к ней шаг. И Хогвартс, замок, всегда бывший чувствительным к людским переживаниям и сомнениям, совершил нечто странное.
Над ними расцветала пышная веточка омелы.
Он прекрасно знал, что это означает. Те сказки, которые рассказывал ему Питер, бывший любимым чадом своей матери и наслушавшийся различных историй по гроб жизни, повествовали о цветках этого растения, сближавших волшебника и волшебницу в Рождество, когда на их волосы падал мягкий снег. Сириус тогда залился краской, но желания сохранять дружбу и здравомыслие не было. Он сделал еще шаг, чувствуя привычный ее аромат свежести и зеленого яблока, такой, что не осталось ни капли соображения. Он чувствовал головокружительную радость, эфемерную свободу, как тогда, когда он становился анимагом. И тогда он нагнулся и поцеловал ее в губы. Это ощущалось удивительно по-детски – он умел целоваться слишком хорошо, немало девиц томно делали ему такой комплимент, – однако в тот момент они столкнулись лбами, он усмехнулся ей в висок, и затем поцеловал. Какие-то поразительные секунды – всего три или четыре, – он просто прижимался к ее губам губами, и по телу разливалось удивительное тепло. А затем портрет Полной Дамы начал приотворяться, и он, точно ошпаренный, отшатнулся от нее. Для полного завершения образа не хватало лишь оттолкнуть ее от себя. Его однокурсница по-идиотски хихикнула, сжимая руку Джеймса, и эта парочка плавно двинулась в сторону, явно не осознавая, что разрушила – или спасла?
А на следующее утро он лежал, широко распахнутыми глазами уставившись в потолок, и думал, правильно ли то, что он сделал. Нравится ли он ей – или же нет? Был ли этот детский, нелепый и бесконечно дорогой поцелуй для нее таким же детским, нелепым и бесконечно дорогим? Или же, будь на его месте другой гриффиндорец... Сириус скрипнул зубами, пытаясь отделаться от шальной мысли, и быстро вскочил с кровати. Оказалось – зря боялся. Эшли Джонс вела себя, как обычно, весело помахала ему рукой и быстро обняла за шею, начиная поздравлять с Рождеством и говоря всякую такую чушь. Он предпочел сделать вид, что не помнит. Однако явственно ощущал, что она медленно начала отдаляться от него. И годом позже, когда Джеймс сядет напротив него и начнет говорить, как целовался с Эванс, и как притворился, что ничего не было, Сириус впервые в жизни накричит на него, назовет идиотом и будет корить друга за то, что не пришел за советом раньше. Ведь ниточка, укрепившаяся между ним и Эшли в ночь омелы, медленно начала становиться тоньше и тоньше с каждым днем, проходящим после того, как связанные между собой люди начали делать вид, что ничего такого не было. То, что Эшли тоже притворялась, он узнает куда позже. Они потеряли год, хотя могли этого и не делать. Дело было всего лишь в столь присущей человеку гордой трусости и бесконечной привычке задавать самому себе вопросы «а если…». «А если для нее это ничего не значило, а я буду, словно идиот?» – спрашивал себя Сириус тогда. И ровно то же говорила себе Эшли Джонс.
После этого их «дружба» как-то начала сходить на нет. Он бился за нее, подходил, как заведенный, чаще и чаще, спрашивал что-то, но она прекратила вести рассеянную болтовню с ним, прекратила отвечать на бессмысленный флирт и заигрывания, прекратила обнимать его при встрече и смешно чмокать в щеку, когда он вредничал. Прекратила перебирать его волосы и смешно заглядывать в глаза, спрашивая, как дела. Прекратила даже вести привычные объяснения его поступков. И ему физически всего этого не хватало. Он бы понял причину, он бы извинился, он бы все исправил, восстановил отношения между ними, если бы не одно «но». Такое «но» бывает всегда. И в данном случае оно выражалось в ревности. Не прошло большого количества дней после заветного Рождества, как она начала встречаться с каким-то глупым когтевранцем. Он был никаким. Сириус не мог запомнить его имени, не отличал среди безликих студентов этого факультета, не мог даже назвать курс. Просто в бешенстве стал натыкаться на Эшли Джонс (нельзя признаваться в себе, нельзя добавлять к ее имени простое слово «его» ) и этого парня повсюду. Столько вечеров он пялился на карту, наблюдая за двумя точками, перемещавшимися по замку вместе. Один раз он с таким остервенением ткнул палочкой в эти точки, веря, что получится их разнять, что чуть не прожег драгоценный пергамент. Ремус сердито зашипел и выхватил плод усердных трудов из его рук.
Над Картой они вчетвером работали с невероятным энтузиазмом. Сколько времени друзьям потребовалось на сбор всех черточек Хогвартса, на вечную доработку идей, на смешливое обсуждение дизайна, звучавшего как безумный поток безумных предложений. Например, главенствующая идея движущихся точек принадлежала Хвостику, который настолько часто привык играть в волшебные шахматы, что предложил изобрести фигурки людей, ходившие бы по этому подобию шахматной доски. Правда, тот поток речи, что пытался донести им Питер, был воспринят и расшифрован с огромным трудом – объяснять этот паренек никогда не умел. А информацию о потайных коридорах они частично выкрали из кабинета Филча, подговорив понимающего Ника сбросить Исчезающий шкаф прямо над норой завхоза. Им помог даже Пивз, злобно заманивавший беднягу на далекое расстояние от места вылазки мальчишек. И результат всего этого предприятия – шикарная, полнейшая Карта Мародеров (общее название компании пришло от профессора Макгонагалл, еще на первом курсе яростно обозвавшей их мародерами, когда та увидела всех четверых мальчишек, уходящих из кухни с огромным количеством набранной еды). Карта, которую Сириус от бешенства чуть не уничтожил. То событие отрезвило его, что ли. До него просто внезапно дошло, что если сейчас Эшли Джонс рядом с другим человеком, то он ей не особенно нужен. И злиться не следует.
Тогда Сириус ушел в окончательный бродяжнический запой. Он метался от девушки к девушке, не запоминая черт их лиц, их голосов, их слов, что они ему говорили. Он вел себя, точно раненое животное, помещенное в клетку – шатался, точно от боли, и не мог успокоиться. Боль была – душевная. Эшли ему не хватало, не хватало ее сияющего образа, не хватало бесконечного оптимизма, не хватало огромных глаз, в которые он мог смотреть бесконечно. Дурак, – думал Сириус. Какой же ты дурак. Дурак и жалкий трус. Сам все втоптал в землю – и чем? Единственным поцелуем. Не так, – сразу возражал он. Трусостью своей. Тем, что предпочел забыть то, что тебе было так дорого. Или притвориться. Именно в таком состоянии он прожил оставшееся время пятого курса, постепенно прекращая быть такой амебой. Он общался с друзьями, слушал сетования Джеймса, что Эванс не дала ему себя поцеловать, подшучивал над Хвостиком. И разговаривал с Ремусом. С Ремусом он любил разговаривать; тот понимал его так, как не понимал никто другой в одной столь нужной вещи – любви к Эшли Джонс. Ремус был влюблен в Мэри, другую подругу рыжеволосой гриффиндорской старосты (какая ирония – для Хвостика третьей подруги не нашлось), – и оставался невероятно мудрым для пятнадцати лет. Он совсем не чувствовал и не чувствовался ребенком; он уже тогда вырос, вырос потому, что был оборотнем, вырос куда раньше сверстников. И свои дурацкие метания Сириус мог выложить лишь ему, завывая, как волк воет на луну, и признавая одну вещь: Эшли Джонс нужна мне.
И Эшли Джонс вернулась. Они тогда сдали СОВ, отправились к озеру, и Сириус находился в невероятно приподнятом настроении. Он был уверен в своем экзамене, с улыбкой наблюдал за тем, как Джеймс привычно рисуется, косясь на Эванс (Сириус, в свою очередь, косился туда же, наблюдая за тем, как солнце играло на каштановых волосах Эшли). Даже восторженное пищание Хвостика где-то рядом с ухом не раздражало. Был удивительно прекрасный день, и они все дружно прекрасно издевались над забитым Нюниусом (сам он против Снейпа ничего не имел, вот только он привык все делать за компанию, любить и ненавидеть в том числе; кроме того, ему доставляло свинское удовольствие работать на публику, а публика слизеринского заморыша не принимала). Он смеялся так, как никогда, наблюдая за нестиранными подштанниками Нюниуса, пока не услышал брошенные тем слова, которые так задели Эванс, хотя она и стремилась этого не показывать. Джеймс закипал, как заварочный чайник, и все равно не мог остановиться рисоваться перед рыжеволосой девушкой; внимание Сириуса было приковано лишь к Эшли Джонс, стоявшей так близко к нему, что он мог чувствовать ее запах. Спустя очередных полчаса унижения Снейпа они все двинулись к замку, но он видел – Эшли сидела у озера, утешая Эванс, плечи которой тряслись, и он просто решил подождать. Он не знал, зачем. Но когда та слабо поднялась и побрела к замку, а Эшли осталась, Сириус осознал: все правильно. Он присел рядом с Эшли и просто говорил. Обо всем. О том, что происходило в то время, о том, что жалеет, что она отдалилась от него, о том, что ему не очень без нее (сказать «ужасно, никак» не позволял характер и хвалебная гордость), о том, что он соскучился. И она ответила, что тоже соскучилась. Не спрашивала, догадывается ли он, почему все сошло на нет. Просто опять начала говорить, много и чуть бессмысленно, как раньше. И после этого бродяжничество разбилось на мелкие кусочки и исчезло из его сознания. Оставалась лишь Эшли Джонс.
Потом было бесконечно долгое лето. Он, подчиняясь неписанному правилу их внешкольных рамок, не писал ей по простой причине: не знал, куда писать. Он даже не знал, в каком городе она находится и где проводит каникулы. Поэтому чуть ли не сходил с ума, вычеркивая дни, остававшиеся до заветного первого сентября. Затем Джеймс пригласил его погостить, и он получал искреннее наслаждение, неизменно гоняясь по лугам, лесам вместе с лучшим другом, с заливистым лаем оставляя грязные отпечатки собачьих лап на белоснежном поттеровском крыльце. Поттер его не ругал за это. Даже поддержал идею, заставляя своих родителей удивляться: откуда около их дома столько рытвин от будто бы оленьих копыт? Когда мать друга пожаловалась им на эту загадку, друзья прыснули в тарелку с кашей. Слишком уж недоуменное у нее было лицо.
И шестой курс. Курс, переменивший всю его жизнь. Прошло всего лишь пара месяцев, и он впервые спустя долгое время дышал полной грудью рядом с Эшли, которая всецело принадлежала ему. Безликий когтевранец отошел на второй план, а потом и вовсе растворился в череде событий, и она была так превосходно жива, неутомимо весела, что с каждым днем он влюблялся в нее сильней и сильней. И наконец он нашел в своем жалком сознании силы пригласить ее в Хогсмид. Она пожала плечами и сказала, что да, пора уже друзьям сходить вместе в деревню. И в нем в тугой комочек собрались все чувства к ней, чувства, росшие после того рукопожатия в поезде, и Сириус выпалил «не так». Эшли поняла. И когда они вышли из замка превосходным декабрьским днем, он вновь, как и тогда, под омелой, по-детски взял ее за руку. Это перевернуло все его сознание – сколько символичности было в их переплетенных пальцах, как тогда, в коридоре Хогвартс-Экспресса, когда их руки впервые встретились. Они зашли в кафе мадам Паддифут, и впервые ему стало плевать на дурацкую розовую обстановку. Ведь напротив сидела Эшли, пившая капучино быстрыми глотками, как она всегда его пила; глаза ее необыкновенно смеялись, и они говорили обо всем, обо всем, пока не коснулись памятного Рождества, и она дико покраснела, поставила чашку на стол и чуть отвернулась.
И он спросил:
– Ты помнишь?
– Помню, – откликнулась она.
Ему хотелось воскликнуть «так какого черта?!», но он этого не сделал. Прекрасно ведь понимал, что это восклицание прежде всего он должен адресовать сам себе.
– Я виноват перед тобой, – сказал он, отчаянно краснея. – Я был не должен. – И слова полились нескончаемым потоком, он, Сириус Блэк, впервые так остро обнажал перед кем-то душу. Он говорил, как она для него важна, как всегда была важна, что он идиот, что он боялся, что он ей был не важен, и что они потеряли год, и что если она… если она чувствует к нему что-то… Он начал сбиваться, прятать взгляд, и внезапно прохладные пальцы Эшли Джонс обхватили его подбородок. И она тоже начала говорить. Она называла его глупцом, рассказывала, что всегда была влюблена в него, с того момента в поезде, что ей никто никогда не был столь нужен, и что она тоже виновата в потере их года (целого года!), и что да… если он хочет…
Сириус удивительно знал, что нужно делать: наконец он поцеловал ее по-взрослому, переплетая пальцы своей руки с пальцами ее; он вдыхал сногсшибательный аромат свежести и яблок, чувствовал тепло ее кожи, слушал ее смешное дыхание, сбивчивое, через нос. На них кто-то смотрел? О, да ему было плевать. Пусть смотрят.
И все было бы хорошо, просто замечательно, если бы не то самое «но». Да-да, то самое, которое существует всегда и в любой ситуации. Ему начал сниться сон, и этот сон заставлял его просыпаться с длинными, душераздирающими стонами, адресованными в никуда; сон, из-за которого он боялся, не хотел засыпать, и мечтал умереть, чтобы никогда больше его не видеть. Один и тот же сон на протяжении нескольких дней, недель, месяцев. Его Эшли в длинной цветастой юбке, в стиле хиппи, который она столь любила, его Эшли, смеявшаяся только так, как она умела – сильно, звонко, по-настоящему. (Теперь он с наслаждением слушал этот смех и недоумевал: как его звук мог быть столь раздражающим?) Его Эшли, бегущая по дороге босиком, по теплой, нагретой солнцем дороге – дороге, обрамленной мощеными стенами небольших домов, и картина этой улочки напоминала ему Италию, возможно, один из ее мелких городов, таких, как Чезенатико. Его Эшли, зовущая его, звучно выкрикивая его имя, и маша рукой. Его Эшли, которую сбивает машина.
И сон кончался, вгоняя настоящего Сириуса в отчаяние. Ну почему тогда, когда он понял, что чувствует себя счастливым, он начал видеть это? Картина не выходила у него из головы даже на занятиях, она оставалась в его сознании всегда, яркой вспышкой, и особенно сильной – когда он был рядом с ней. И он понял, что не может стать с ней настолько близким, чтобы поехать куда-то. Чтобы ее сбила машина. Чтобы Эшли Джонс исчезла из мира. Вот и пусть она будет не с ним – но она не умрет так. В цветастой юбке и смеясь. Ведь она не будет выкрикивать его имя. Все будет правильно. Всем этим руководствовался Сириус, доказывая себе, почему он хочет – и не может. Почему целует ее – и его гложет страх, и он не получает никакого удовольствия. Почему постоянно рядом с ней не может избавиться от всепоглощающего чувства ужаса. И он держал ее на расстоянии вытянутой руки. Было даже хуже, чем при дружбе – он тяготился временем с нею, он не мог быть с ней счастливым, в то время как она была счастливей всех на свете. Он не мог быть с ней по-настоящему, отдавать ей себя без остатка, как это делала она. Удивительно, что Сириус не мог поделиться с любимой женщиной, женщиной всей его жизни, единственной женщиной, на которой он мог жениться, всем этим. Просто не мог. Язык сковывало. Наверное, Эшли чувствовала эту скованность, недоговоренность, недорадость. Ведь продолжала же она рисовать беспечные образы, направо и налево заявляя нечто вроде «ну, я пойду пересплю со своим парнем, и все будет хорошо». Обидно. Он старался выглядеть таким же, как и она, и были моменты, когда радость пробирала его с головы до ног – и мгновенно омрачалась воспоминанием о сне. И не получалось. Как бы он ни старался – всегда не получалось.
А потом он столкнулся с жестокой реальностью, с пожаром, с бедной Мэри, которую жизнь превратила в чудовище, с Лили и Джеймсом, отчаянно схватившимися друг за друга, с Ремусом, получившим ещё более тяжкую ношу на свои плечи, с Питером, оставшимся одиноким перед этим суровым миром. И понял: нужно что-то делать. Не должно быть так. Только не с его Эшли. Не должно быть этой присказки «недо» в их отношениях. Удивительно, что в эти моменты, когда он хотел сбежать ото сна, от этих тяготивших отношений, от реальности, его пристанищем становилась Лили. Эванс, которая так его раздражала. Эванс, которую он считал настоящей дурой. И посмотрите на него теперь – когда жизнь больно хлестала его, хлестала сном, хлестала такими отношениями, хлестала предательством сестры, – он поджимал хвост и мчался к ней. Всегда к ней. Чтобы слушать ее голос, вдыхать запах (совсем как с Эшли), и уверять себя, что все будет так, как она говорит. Что все будет хорошо. Что воцарится справедливость. Что сон пройдет.
Наверное, Лили Эванс действительно была волшебницей. Наступило лето – самое страшное лето в воспоминаниях многих людей, и самое счастливое в его жизни. Он ушел из дома, схватил лучших друзей, девушку и свалил в Австрию. Он любил эту холодную, царственную страну, принявшую запутавшегося парня в свои объятия. Любил дурашливого дядюшку, обожавшего шутить и смеяться над шутками. И в один из австрийских вечеров Эшли Джонс вскочила, тряхнула его за плечи и спросила:
– Сириус, да что с тобой? Скажи мне, пожалуйста, иначе… я просто сойду с ума. Ты ведь неживой. Скажи, или я, клянусь, уйду.
Он уткнулся ей головой в колени, и метался, и стонал, и говорил, описывал мельчайшую деталь сна, говорил своей девушке, как она умирает в его фантазии, и как он не может приблизиться к ней в реальной жизни, не может, его останавливает... он не понимает, что его останавливает. Он говорил, что ничем не будет без нее, если она уйдет, останется оболочкой, ничем, она слышит? Ничем…
Эшли перебирала его волосы, а затем сказала:
– Сириус, родной, послушай меня. Это всего лишь сон. Ты слышишь меня? Это сон, и ты с легкостью можешь его уничтожить. Сны отражают все, чего мы боялись или боимся, или же что нас волнует, и часто становятся нашей тюремной камерой. Ты боишься потерять меня. А я боюсь потерять тебя. Но этого не будет. Я всегда буду рядом, всегда, чувствуешь? – она взяла его за руку ( как в поезде), – вот так. Рядом. И никуда не уйду. И никогда не куплю цветастую юбку. И босиком не буду ходить. И в Италию мы не поедем. Понял?
Он поднял голову: глаза у нее были добрые. Стало странно спокойно, как раньше, когда он слышал ее болтовню, расслаблялся, по-настоящему отдыхал.
– Я понял.
Сириус действительно понял. И даже когда началась Война, из-за которой люди менялись сами и меняли других, из-за которой люди бежали даже от самих себя, – он не бежал. Больше не мог. Он позволил себе быть счастливым рядом с ней, радоваться каждому мигу, пусть это казалось неестественным; он старался шутить над каждой вещицей, поднимать настроение друзьям. И у него получалось. Война меняла всех: она меняла даже его друзей, вот только его не коснулась. Для него это слово не приобретало страшного значения, фактически, ему было все равно. Главное, что Эшли Джонс была рядом, и ее рука сжимала его руку, и она встречала надвигающийся мир, уставившись на него огромными глазами. Он мог с легкостью забыться, спрятаться в этих глазах, даже если начинал волноваться по поводу Войны. Она отобрала у него сестру, а ведь он часто скучал по Нарциссе, по ее скептицизму, но предпочитал отодвигать мысли на задворки сознания, – она отобрала слишком многое, но разве нужно было рассыпаться? Нет. Имело смысл собираться вновь.
Она окончили школу, Хогвартс открыл свои ворота, выпуская их наружу, как вольных птиц. Однако жестокий мир не был для них сюрпризом; они все принимали его как должное. И началась длительная подготовка мракоборцев, определенно украшаемая талантливым парнем, учителем, Грозным Глазом; он казался угрожающим лишь при дальнем рассмотрении, на самом же деле был добрейшей душой (по крайней мере, Сириус в это верил). Он не запоминал школу Аврората; одно событие сменялось другим, другое – еще одним, и так по замкнутому кругу. Эшли училась на целителя с серьезным желанием залечивать получаемые им раны. Они так и жили: от ухода из дома до возвращения. Дома их ждали теплые вечера, джаз, разговоры, переплетение рук и бесконечные поцелуи. И лишь одна вещь, связанная с работой, отпечатывалась в мозгу: убийство. Он помнил ужасную битву, когда Грюм, постукивая деревянной ногой, холодным голосом велел им сражаться изо всех сил. Он помнил, как стоял спина к спине с Джеймсом ( как всегда), взмахивал волшебной палочкой, выкрикивал многочисленные заклятия. А потом один Пожиратель бросился к Лили, сражавшейся неподалеку, и воздух разорвался двумя зелеными вспышками. Сириус прекрасно, отчетливо помнил свой неожиданно ровный голос, выкрикнувший «Авада Кедавра». Голос, эхом которого звучало то же заклинание Джеймса. Пожиратель рухнул на холодную землю, а Сириус с трудом унял непривычную дрожь. Потом такая дрожь возникала часто, в особенности, когда после очередной битвы его хлопали по плечу и говорили «парень, да у тебя талант!». Это любил повторять Грюм, почти с любовью шлепая ученика по щеке. Вот чего у Грозного Глаза никогда не было, так это такта. Не мог этот странный человек уловить, что приятно людям, а что внушает им мерзкую тошноту.
Но в этой пелене было и чрезвычайно светлое событие. Джеймс женился на Лили. Сириус прекрасно помнил тот день: друг так нервничал! Это было даже смешно – его будущая теща была готова захихикать, наблюдая за странными покачиваниями и почесываниями жениха. Эшли, стоявшая в стороне, тоже чуть улыбалась – Поттер разве что не подпрыгивал, и Сириусу приходилось раз в пять секунд на него раздраженно пшикать, от чего гости прятали ухмылки.










































































 ... что победителей всех конкурсов по фанфикшену на TwilightRussia можно увидеть в
... что победителей всех конкурсов по фанфикшену на TwilightRussia можно увидеть в