Сияние Такая любовь тебя не предаст, не испугает и не поработит.
Она освободит тебя.
Будь тем, кем стремился стать.
Есть замысел,
Расстановка,
И, выплакав сердце,
Увидишь истинную красоту любви. Mumford and Sons – Sigh No More —|—
Эдвард – А вот и он!
С долю секунды я моргал и тупо спрашивал себя, а действительно ли это происходит на самом деле. Неужели я сел на рейс из Лондона в Сиэтл, арендовал машину и проехал три часа до городишка, посещённого мной единственный раз в десятилетнем возрасте? Неужели я стоял в полуразрушенной охотничьей лачуге с так называемой девушкой-медиумом, с которой только-только познакомился?
Не время для подобной фигни в такую рань. Изнурённый, я потёр лоб. Эта незнакомка была слишком… энергичной, возбуждённой, а хибара, которая, по её заверениям, была именно тем, что я искал, выглядела так, словно там не жили, не говоря уже о том, чтобы убирались, по меньшей мере, двадцать пять лет.
– Знаю, она кажется негодной, но каркас целый, и всего-то надо прибраться тут. Погоди, ты ещё не видел озеро.
Элис.
Я опять покачал головой, изумляясь, что ещё существовали люди вроде неё. Она увидела меня, стоящего на тротуаре Порт-Анжелеса, наверное, потерянного и жалкого на вид – как, впрочем, и было – и сжалилась надо мной. Не думаю, что захочу забыть вид этой крохотной женщины, улыбавшейся мне и дотронувшейся до предплечья, справившейся о моих невзгодах. Я не рассказал Элис всей истории, даже близко к этому, но, похоже, по ощущениям ей хватило моей реакции, достаточно, чтобы узнать, в чём я нуждался. Перемотаем на семнадцать часов вперёд, и вот мы где.
– Соседей нет, по крайней мере, ты никого не заметишь из домика. О месте уединеннее этого можно и не мечтать, Эдвард.
Я кивнул и позволил Элис показать мне весь небольшой коттедж, пытаясь сосредоточиться на загромождённой комнате и кухне-развалюхе, но меня отвлекли дразнящие вспышки голубого, пробивающиеся сквозь грязные окна. Озеро. Единственная причина моего приезда сюда, моего осмысления этого… безумства.
Наконец мы вышли на улицу через старую, широкую летнюю террасу и прокладывали тропу в диких зарослях, забивших большую часть площади двора. Но Элис оказалась права: вид на озеро открывался потрясающий. С трёх сторон окружённая горами, подёрнутая тонкой мглой, зелёно-голубая вода была настолько прозрачной, что виднелось дно, громадные деревья отлого поднимались по краям водоёма.
Стояла невообразимая тишина. Никакого беспрестанного гула машин, никаких людей, никакого загрязнённого воздуха, никакого сигаретного дыма, никакого застоявшегося пивного запаха, недвижимым облаком висевшего в Лондоне.
Здесь я мог на некоторое время укрыться. Может, даже исцелиться.
Да и какого, собственно, чёрта мне было терять? Мне требовалась передышка, даже если всего на пару недель, а Элис сказала, что домик можно снять на короткий срок, с возможным последующим выкупом в собственность. Если жилище мне не понравится, то ничего. Если да… что ж, я подумаю над этим, когда придёт время. Я развернулся к Элис, чьи ясные глаза ярко блестели, словно она заранее знала мой ответ. Чёрт, да, наверное, так и было.
– Как скоро я могу въехать?
—|—
«Он думает, что хорош, Кейт! А я о том, что Эдвард – посредственный музыкант, но ты-то знаешь, как тяжело пробиться в этой индустрии. Он никогда не разбогатеет – это уж точно, по крайней мере, пока не воспользуется своим родством с Карлайлом. А ты знаешь, что он не станет, говорит, что хочет преуспеть самостоятельно». Смех. Она смеялась. Они смеялись.
«И всё же я полагаю, что мне нет нужды волноваться насчёт этого. Мне только и нужно, что потрепать его по голове и сказать, как я горжусь им; даже жалко, как мало нужно ему для счастья. Но у его отца денег больше, чем у Господа, и Карлайл позаботится об Эдварде, невзирая на обстоятельства, так или иначе, но я обогащусь.
И он красавец… хоть что-то…» Я проснулся в поту, надсадно дыша, пока остаточные эмоции сна захлёстывали меня и громкий женский смех звенел в ушах. Как реально, как знакомо. Слова Тани эхом отдавались в голове, скручивая живот узлом, возвращая меня в тот вечер.
Три недели отдраивания и отмывания, очистки двора от густого кустарника, работы до изнеможения, доведения себя до предела возможностей, чтобы заснуть и поспать. И тем не менее это не предотвращало наступление этих чёртовых снов. Я вздохнул и потёр ладонями лоб, вытирая пот.
Пальцы чесались от желания держать в руке выпивку, да покрепче, которая опьянит мозг, пресекая всякие мысли. А вдруг это надолго не спасёт? Вдруг я проснусь с тошнотой и болью, и ещё хуже, чем ранее? Я тосковал по немоте, тем кратким часам, когда не должен был ничего ощущать.
Но в коттедже не было ни капли спиртного, а я был не настолько туп, чтобы его искать. Скользкая дорожка, по краю которой я ходил неоднократно; если я буду неосторожен, то не пройдёт много времени, прежде чем я превращусь в конченого человека. Таня того не стоила. Никто не стоил.
Вдобавок ничто не помогало заглушить мысли о ней. Хотя бы на короткий срок. В те редкие случаи, когда казалось, как минимум ненадолго, что мы будем в порядке. В плохие времена, наступавшие гораздо чаще, когда Таня дулась или орала, или просто уходила, и я задавался вопросом, что может, сейчас, может, на этот раз она не вернётся. Но она всегда возвращалась, вся такая извиняющаяся и льстивая, а цикл повторялся. Снова и снова.
Кроме последнего раза. Как только я услышал те слова, то понял, что всё кончено. Таня заставила меня почувствовать себя грязным, использованным. Единственный человек, которому я мог доверять, охотился за деньгами моего отца.
Но горше и труднее всего проглотить было отсутствие у меня даже тоски по ней. Одиннадцать лет расставаний и воссоединений, одиннадцать лет веры в то, что Таня – моя родная душа, а сейчас, когда всё закончилось, я чувствовал лишь… облегчение. Мне следовало бы сильнее злиться, грустить, следовало ненавидеть её. Но я не стал, и отсутствие реакции навело меня на мысль, что, возможно, я не любил её так сильно, как думал.
Из-за чего меня снедала вина.
Круги. Я сводил себя ими с ума, в то время как имело значение только одно: впервые с тех пор, как мне исполнилось семнадцать, старая дверь с табличкой «Таня» решительно захлопнулась. Может, поэтому прощание отзывалось сильной болью, и мне снились эти разговоры. Моё будущее, всё, что я планировал для себя, для неё, для
нас, внезапно исчезло, треснуло по швам. Я верил, что проживу с ней всю жизнь. Не важно, любил ли я её так же сильно, как мне следовало, любила ли она меня или нет… такую реальность я нарисовал в своём воображении. И сейчас всё закончилось, и я не знал, чем заняться.
Я перепробовал многие способы заполнить эту пустоту: своей музыкой, алкоголем, негодованием. И когда ничто из этого не помогло, я сбежал. И не куда-нибудь, а в штат Вашингтон.
Но вдруг это не поможет – вдруг мой план окружить себя тишиной и пространством ничего не изменит, и приезд сюда лишь пустая трата времени? Что попробовать в следующий раз?
Потому что это не работало. Что бы я ни искал, оно ещё не успело появиться. Я не чувствовал себя лучше или чище, или свободнее, чем лёжа на тротуаре возле того лондонского бара, дыша смогом и сигаретным дымом. Взамен я зашёл в ещё больший тупик.
Я не знал, чему так удивлялся. Я провёл последние шесть месяцев, пытаясь вывести из тела всю эту дрянь, хотя ничего из этого не привело меня в порядок, по крайней мере, какое-то время я провёл в оцепенении. Но здесь, посреди захолустья, в безлюдной округе, без спиртного и без отвлечений мне нечего было скрывать. Лишь я наедине со своими мыслями и домик – вот что только наваливалось на меня.
Это коттедж… что ж, по крайней мере, он не был такой свалкой, какой казался во время обхода с Элис. Я выплёскивал излишки энергии в обустройство жилища, в его обихаживание и выяснил, что мне нравится возникшая с этим неопределённость, неведение относительно того, что я отыщу, пока не найду время смыть всю пыль, грязь и сделать место пригожим вновь.
Запачканные места доставляли мне неудобства: пережиток моего суматошного детства. Я никогда не забуду себя восьмилетнего, оторопелого до чёртиков, впервые входящего в дом моих новых приёмных родителей. Он совсем не походил на всё виденное мной ранее: никакого мусора, рухляди, куч, никакой грязной посуды в раковине, полный еды холодильник. В моей новой комнате игрушек было больше, чем могло существовать на свете. Я был так юн, так растерян и не знал, как со всем справиться, как влиться в эту среду. Но тогда, после ужина, Эсме встала и спросила, а не хочу ли я помочь ей с посудой. Это стало нашим вечерним ритуалом, первой робкой ниточкой между нами, тем, что мы до сих пор делали в каждый мой приезд домой. Именно у раковины в доме Эсме я первый раз назвал её «мамой».
С укором я вспоминал то время. Мои родители не знали, где я находился, только то, что я вернулся в страну. Иногда я подумывал позвонить им, но стоило пальцу нависнуть над их номером в моём телефоне, как я не мог набраться мужества довести начатое до конца.
Частично это имело отношение к словам Тани, но, честно говоря, обида и злость к Карлайлу – какими бы ужасными они ни были, – медленно кипели во мне долгое время. Известность моего отца вызвала сильное напряжение между нами, по большей части это случилось в наихудший момент жизни, когда мне стукнуло шестнадцать и когда я только начинал понимать свою личность. Ни разу в жизни мне не хотелось популярности за счёт достижений отца, но, более того, мне претило ставить под сомнение любые дружеские связи, приходилось сдерживаться из страха быть использованным. Но я научился жить с этим, смирился с дурной славой, сопровождавшей сына Карлайла Каллена.
До предательства Тани. Оно пошатнуло меня, вынудив усомниться во всём.
Карлайл не был виноват в этом, не совсем, но я до сих пор не мог видеть его и разговаривать. Я очень боялся того, что скажу. Одно я знал точно: в моей жизни больше не было места сожалениям.
Как только моё дыхание пришло в норму, я вытащил себя из кровати, желая выкинуть из головы всю дурь, пока не сошёл с ума. Нацепив тренировочные брюки, я выглянул в окно и увидел, что солнце только восходило над озером.
Уличный воздух пах хорошо и был достаточно холоден, чтобы без дискомфорта прочистить мне голову, хотя фактически на дворе стояла зима. Тропинка к пляжику уже не была такой коварной с тех пор, как я выкорчевал разросшиеся кусты, но она ещё требовала ухода. Гравийная дорожка, немного ландшафтного дизайна, определённо построить причал… но всё это подождёт, пока я не решу, останусь ли на весну.
Пока я не успел себя отговорить, я бодро зашёл в воду, шипя от ощущений. Постояв некоторое время, привыкая к температуре, с каждой минутой заходя в глубь, пока вода не дошла до колен. Оглянувшись по сторонам, я впитывал тихую атмосферу места, тихие звуки. Чёрт, насколько же красиво это место. Больше всего на свете я желал, чтобы оно меня исцелило, чтобы утихомирило гнев и уняло внутреннюю боль, облегчило моё существование, сделало меня лучше. Будь каждое место на это способно…
Бездумно я пошёл глубже, погружаясь в холодную, кристально чистую воду, игнорируя холод. Я долго плавал, упражняясь в разных стилях, которые помнил ещё со времён уроков плавания в возрасте девяти лет, и как тогда мама подбадривала меня с бортика бассейна. Во время плавания мне стало легче, чем за многие месяцы, может, годы. Было так чертовски хорошо, что хотелось кричать.
Разум заполоняли – но не воспоминания – обрывки слов, фразы, аккорды, мелодии, музыка. Ничего существенного, но всё же лучше, чем то, что наводняло моё сознание за долгое время.
Повеселевший, я выбрался на берег. Не вылеченный, но более раскрепощённый, больше похожий на себя. По пути в дом я пригляделся к нему, ко всем изъянам и отколовшейся краске… и осознал, что этот дом мой. Не имеет значения, способно ли это место исцелить меня, я нуждался в нём, мне необходимо быть тут. Необходимо личное время и пространство. Мне нужно это озеро.
Как только настало приличное время, я позвоню Элис и попрошу её подготовить бумаги. Нужная сумма лежала на моём счёте в банке, заработанная за мою музыкальную карьеру, презираемую Таней. Я ни цента не возьму из денег Карлайла.
Любопытно, Элис удивится, получив от меня звонок, но затем я фыркнул и закатил глаза: вероятно, она уже была готова предъявить мне документы на продажу дома, как только я вселился.
Телепатия и всё такое.
—|—
Иногда пристальные взгляды не беспокоят меня. Я говорю себе, что привык к ним, что достаточно толстокож, чтобы меня это больше не волновало.
В другие времена мне снова шестнадцать, я неуверен и стеснителен, и желаю, чтобы мой отец никогда не ходил на ток-шоу в качестве консультанта, чтобы ему никогда не выпадал шанс славы, – тот самый, который выдвинул всю нашу семью на первый план рядом с ним. Жуткое было время. Все таращатся – одноклассники, учителя, – все шепчутся за спиной, затем шутят и посмеиваются мне в лицо. Я ненавидел каждую минуту этой «известности», желая вернуться к обычному Эдварду Каллену.
Во время музицирования всё обстояло иначе. На сцене, после двух-трёх песен, я попадал в страстно желаемый ритм, – люди кричали, подпевали и хлопали передо мной, и я ощущал себя другим человеком. Пристальные взгляды зрителей подпитывали, словно топливо; мне хотелось ещё, ещё и ещё.
Но они не
видели, не совсем. Они считали, будто знают меня, но, вопреки правдивости слов песен, я ни с кем не сближался. На сцене я облачался в другую шкуру и целиком контролировал то, сколько моей истинной личности выходило наружу.
В Форксе же сложилась иная ситуация. Я ожидал анонимности и её-то меньше всего получил в этом крошечном лесозаготовительном городке. Элис объяснила такую реакцию тем, что я новенький, другой и интригующий, но, главным образом, потому, что я никому не говорил причин своего переезда. «Ты загадка, Эдвард, а ты знаешь, как люди их любят – особенно в маленьких городах, где больше нечем заняться». Слухи веселили Элис, и она непременно звонила матери каждые пару дней, чтобы услышать самые свежие, передавая мне все лакомые кусочки.
Сплетни. Видимо, они преследуют меня повсюду. Кухня слухов Форкса бурлила и не прекращала работу: алкоголь, наркотики, манеры, трахает новую девчонку каждую неделю, скрывается от закона – вот нелепость. Не говоря уже о том, что я в рот не брал ни капли с той ночи в Лондоне, и, кроме сигареты с марихуаной в семнадцать, я никогда не употреблял наркотики. Или что в жизни я спал только с двумя женщинами.
Я знал, что за музыкантами закреплялась определённое реноме, но не мог позволить себе пойти по тому пути. Не то чтобы искушение не манило меня, или же я не кайфовал, но вашу мать. В таких случаях я всегда ощущал, что вот-вот уподоблюсь Элизабет, моей биологической матери, безвозвратно подсаженной на наркотики и секс, и фиг я позволю этому случиться. Кроме того, с Таней у меня не возникало необходимости в поисках другой женщины. Кроме разве что десятимесячного разрыва сразу после колледжа, когда я с неохотой стал встречаться с другой женщиной, Таня была единственной, кого я хотел. Я не был дураком или страждущим настолько, чтобы рискнуть имевшимися отношениями ради временной физической разрядки.
И я до сих пор не был готов к новым отношениям. Безусловно, я не собирался искать замену Тане, и нигде бы то ни было, а в
Форксе.
Хотя Элис ничего из этого не знала. Одна из тех причин, почему мы так быстро сдружились; она не давила, просто приняла «загадку» без вопросов. Вот бы все относились ко мне с подобным безразличием.
Но нет. Они пялились и шептались, а мне приходилось поворачиваться ко мне спиной и притворяться, что я не вижу этого. Чтобы не сойти с ума, я превратил внимание окружающих в игру, вычисляя, как долго я мог оставаться незаметным во время спорадических вылазок в город за бакалеей или едой, что видел, пока они не знали, что за ними наблюдают. Обман, придуманный мной, ребёнком, когда Элизабет кричала, чтобы я затих и убрался восвояси. Конечно, я был слишком мал и наивен, чтобы догадаться о происходящем тогда за воспалёнными веками матери, но по мере взросления я стал лучше разбираться в людях.
Так я сохранял дистанцию, держался обособленно, в стороне. После неблагополучного детства я неохотно впускал людей в свою жизнь; после внезапного прославления отца я замкнулся в себе ещё больше. Я уже «обжигался» ранее о людей, видевших во мне лишь денежные знаки, которые хотели только деньги Карлайла или влияние, которые хотели использовать меня. «Молоком» в этом отношении стала Таня. Таким образом, взамен слепого доверия я отстранялся, анализировал эмоции, мотивы, мысли. Приходилось.
Так что во время скуки я парковал «вольво» на окраине центра города, надевал одну из вязаных шапочек, пригибал голову и смотрел, как долго оставался незамеченным. Я наблюдал за миссис Стенли, которая никогда не упускала шанса пожеманничать, хотя была старше меня на тридцать лет и – согласно данным Элис – являлась главным провокатором всех сплетен, болтающей и ругающейся с самой собой. Её дочь, почти столь же раздражительная, стреляющая сигаретки за аптекой. Существовали и другие, которых я тоже узнавал, пускай не зная поимённо.
Но, идя по тротуару к моей машине, я почти на сто процентов был уверен в том, что ещё не встречал шатенку, сидевшую перед полицейским участком. Моя ровесница, или, может, на год-два старше меня, с открытой книгой на коленях она ютилась на скамейке. Первое, что привлекло моё внимание в ней, были волосы, хотя и безжалостно собранные в тугой конский хвост. Слабый солнечный свет затерялся в волосах, превращая мышиные, тускло-русые пряди в богатые, блестящие красно-шоколадные.
Остальное в ней было не настолько занятным. Выглядела незнакомка бледной и усталой, сгорблённой, точно из-за недостатка сил не могла сидеть прямо. Рыжевато-коричневая куртка придавало коже землистый цвет и утомлённый вид. Издалека я едва разглядел белые эппловские наушники, свисающие из ушей.
Не прекращая двигаться, я продолжал смотреть, хотя толком не понимал почему. Девушка не была хорошенькой или даже интересной. И всё же она пробудила во мне любопытство, заставила задуматься, почему околачивалась у полицейского участка.
Дойдя до машины, я оглянулся напоследок, мгновенно застыв соляным столбом, наслаждаясь развернувшейся картиной. Шатенка запрокинула голову, подставляя лицо снопу света, закрыла глаза и, что даже показались белые зубки, широко улыбнулась. Она помолодела, потеплела, смягчилась. Тело закачалось, двигаясь под неслышную музыку… Живот скрутило в узел. Я захотел выяснить, что может заставить человека выглядеть подобным образом, пусть всего на несколько минут. Свободным, счастливым и живым.
Обернувшись в последний раз, я открыл дверцу машины, гадая, почему это возымело такое значение.
—|—
– Ты ведь не шутишь? – Чуть слышно поинтересовался я.
Внутри всё словно расщепилось и разорвалось. Холодная часть меня задалась вопросом, как можно испытывать столь сильные чувства к почти незнакомцу, но, Господи, Белла больше не была таковой. Не для меня.
Я не верил в происходящее. Когда я попросил девушку прогуляться со мной лес, то посчитал это отличным способом развеять её мысли после отъезда Элис. А прогулка привела к несчастному признанию.
Честно говоря, череда моментов, случившихся у меня с Беллой за последние несколько месяцев, не вписывались в логику: вспыхнувшее влечение, сближение в дружеском плане, беспокойство о девушке. От простого осознания того, что с ней всё нормально, мне тоже становилось лучше.
Но с ней всё было не в порядке. Она умирала.
«Ты, – хотел я сказать впервые с того момента, как увидел Беллу в квартире Элис. – Это ты». Девушка с той скамейки с той неожиданной улыбкой, от которой захотелось выдернуть эти дурацкие наушники и… и что? А девушка, оказавшаяся намного ласковее, добрее и в тысячу раз интереснее, чем я мог вообразить в тот день. И она умирала.
Белла всегда казалась такой хрупкой, что странно, поскольку Элис была на десять сантиметров ниже и на девять килограммов легче, всё должно было быть наоборот. Но в то время как Элис была крепкой, а Белла – прозрачной. Неосязаемой.
И она хотела выйти за меня замуж.
Волна беспомощности окатила меня. И как, хрен его разбери, мне отвечать на подобные заявления? Я едва знал Беллу, но что важнее, она едва знала меня. Один пронизанный электричеством поцелуй и парочка разговоров могут лечь в основу её предложения. Господи,
предложения руки и сердца.
Миллион лет назад я хотел попросить руки Тани. Хотел подарить ей кольцо, посвятить ей всю жизнь, дать всё, что душе её будет угодно. Я никогда не размышлял над идеей о жизни с кем-то ещё и не мог вникнуть в неё.
Бела была не чета нахальной, чувственной и решительной Тане. Белла была робкой и тихой, зачастую неуверенной. И я был охрененно сбит с толку, так как эти черты, как ни странно, не воротили меня, более того, они интриговали ещё больше.
Я прогнал рассеянность, фокусируясь.
– Брак? Ты хочешь выйти за меня
замуж? Но, Белла… почему? Почему я?
Румянец окрасил щёки Беллы, заливая кожу восхитительным розовым цветом, и я откликнулся на этот румянец, как и на все другие. Дерьмо, так… мило, как Белла скрывала чувства в моём присутствии.
Пока она несчастная, пусть и решительная, запинаясь и заикаясь, объясняла свою позицию, я осознал, насколько храбрым был поступок этой девушки, безумным, но храбрым.
– Потому что я, я хочу тебя. В семнадцать я считала брак наиглупейшим поступком в мире… Я не понимала.
Нечто мелькнувшее в глазах Беллы подсказало мне, что она знала об этом не понаслышке. Нотки вины слышались в её голосе. Почти, но не совсем.
– А сейчас?
– С тех пор как познакомилась с тобой, да, я могу понять желание… принадлежать кому-то. Желание принадлежать
тебе. Иметь некую константу в этом смысле.
Постоянный брак. Постоянная вечность. Наши имена, написанные вместе, вопреки всему.
Принадлежать тому, кто никогда не сможет полюбить её в ответ.
Я нахмурился.
– Разве ты не знаешь, насколько несправедлива твоя просьба?
Выражение её лица полоснуло меня, и я почувствовал себя величайшим ослом в мире.
– Разумеется, я понимаю, насколько это несправедливо! Я полностью отдаю себе отчёт в том, что ты ничего не получишь от этого – боже, Эдвард, думаешь, я не знаю, как ужасно я поступаю по отношению к тебе? Я делюсь с тобой тем, чего не знает обо мне моя семья, и прошу тебя жениться на мне… а ты, ты даже не… – Пораженчески, устало рассмеялась она. – Знаю, моя просьба – самый эгоистичный поступок в моей жизни, прости, что обременяю тебя этим.
– Я вовсе не это имел в виду, – вздохнул я. Мне следовало бы знать, что Белла может так отреагировать.
– Тогда что?
Под «несправедливостью» я понимал, что за недолгое знакомство с Беллой я успел понять, насколько особенной она была. Может, в другом мире, где я не был столь запутавшимся… Но, чёрт возьми, но даже если бы мог я, она умирала. Как, чёрт подери, это можно считать справедливостью?
Я прочесал пальцами волосы.
– Ты говоришь, что хочешь принадлежать мне – я понимаю желание отдаться любимому человеку, черт, я тоже прошел через это. Однако я также знаю, что если это не равновеликий, взаимный обмен, то сердце легко разбить. Белла, я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня: я того не стою.
С Таней были неравнозначные отношения. Я хотел большего, она не могла – не хотела – какая разница – отвечать взаимностью. Мне хотелось твёрдых обязательств, и с каждым её отказом частичка меня замерзала. Я не хотел так относиться к Белле. Не хотел, чтобы она обижалась на меня за то, что я не давал ей. Может быть, в данный момент это было не важно, но… ведь станет. Как и всегда.
– Это мое сердце, – возразила она. – Это мое решение.
Потому что Белла не знала лучшего. Дерьмо, да она, вероятно, ни разу не влюблялась. Требовалось одно неверное слово, один неверный жест, и пойдёт трещина, которая со временем нагноится и изведёт нас обоих.
– Разве ты не хочешь кого-нибудь, кто отвечал бы тебе взаимностью?
Плечи девушки пораженчески сникли.
– В идеальном мире, разумеется, хотела бы. Но факт в том, что у меня осталось десять месяцев, Эдвард, – этому не суждено случиться со мной.
Горько, что она так считала. Горчило ещё сильнее от того, что Белла была права. В отличие от меня, окажись я в схожей ситуации, она реалистично оценивала положение дел – это больше всего разозлило меня.
– Так должно случиться с тобой! Ты заслуживаешь этого! – выпалил я, удивлённый собственной горячностью. – Господи, Белла, ты посетила всего лишь одного врача, а другие специалисты? Кто-то же обязан тебе помочь…
– Да, именно так и сказал доктор Томпсон. Он дал мне список всех больниц и кардиологов, к которым мне следует обратиться; также он сказал, что если мне повезет, то я протяну ещё полгода. Химиотерапия, экспериментальные методы лечения… Не знаю, что ещё, но нисколько не сомневаюсь в том, что эти же шесть месяцев я буду не в состоянии шелохнуться. Я не хочу так жить, но и умирать так – тоже.
Сама мысль о Белле, объятой болью, заставило желудок сжаться. Она была такой утончённой. Не только снаружи, но и внутри. Я не знал, что ей сказать. Отец Эсме, мужчина, которого я считал своим дедом, умер от рака. Болезнь протекала долго, в затяжном режиме, ужасно болезненно. И разве мог я указывать Белле выбирать иной вариант? Чёрт возьми, в её положении я, наверное, поступил бы так же.
– Мне так чертовски жаль. Я знал, что с тобой что-то… не так, но и представить не мог, что всё настолько плохо.
Белла вздёрнула голову.
– Ты заметил, что я больна? – ужаснулась она тому, насколько предсказуемой была.
Мои губы изогнулись вверх, но в них не чувствовалось теплоты.
– Не волнуйся, не думаю, что большинство смекнуло бы, что к чему; это так – мелочи.
Мелочи. Например, заметный измождённый вид. Худоба. Особый взгляд после ужина, когда она отпрашивалась из-за стола, исчезая в своей комнате на несколько часов. В памяти вспыхнуло, как однажды кожа Беллы побелела, а губы сжались в тонкую полоску.
– В ночь концерта у тебя случился приступ, так ведь? Они всегда такие?
Девушка кивнула, привычно открытое выражение лица сменилось закрытостью и отчуждённостью, словно она отвлекалась от воспоминаний.
– До начала приема лекарств были еще хуже, некоторые вызывали такую сильную боль, что я даже не могла пошевелиться. Но сейчас они не так часто случаются, как раньше, да и по продолжительности короче. Тебе не придется утруждаться заботой обо мне. Доктор Томпсон сказал, что когда я… – она обильно сглотнула, – умру, то это случится действительно неожиданно; он сказал, что, по всей вероятности, этому будет предшествовать нормальное самочувствие. Это не отразится на твоей жизни, обещаю.
Белла говорила с таким спокойствием, с таким хладнокровием, словно читала по бумаге; такое отношение открывало, насколько вдумчиво она подходила к делу. Интересно, это упрощает или усложняет ситуацию?
– Знаю, что прошу о многом, – продолжала она. – Ты можешь отказаться. Ты не должен бояться… задеть мои чувства и всё в таком духе.
– А как поступила бы ты, откажись я? – с неподдельным любопытством вопросил я.
Румянец, не сходивший с Беллы за весь полдень, стал гуще.
– Понадеялась бы, что ты не оттолкнешь меня насовсем. Я настолько жалка, что согласна на всё, что ты мне можешь дать, насколько бы… непостоянным это ни было. – Она выглядела ошеломлённой, беспомощной. – Когда дело касается тебя, то мне нечего стыдиться.
Мне хотелось схватить её за плечи и встряхнуть. Неужели она не осознавала собственную значимость? Ей бы сильнее себя ценить – это взъярило меня. Что ситуация стала настолько безысходной, что Белле пришлось рассматривать этот вариант, из всех выбрать меня… Господи, она даже не знала моей фамилии.
– Как ты вообще можешь испытывать ко мне подобные чувства – любить меня? Ты даже не знаешь меня. Что если все слухи обо мне – правда?
Внезапный огонь вспыхнул в мягких карих глазах Беллы.
– Я знаю, что ты добродушный. Знаю, что ты хороший человек и что сможешь меня рассмешить. Знаю, что ты – тот парень, что никогда не пропустит свадьбу своей подруги и найдёт способ присутствовать там ради неё, не вызвав переполоха. Знаю, что ты не против моего общества, и я практически не сомневаюсь в том, что тебе нравится целоваться со мной.
Гореть мне в аду за то, как сильно мне нравилось целовать Беллу.
– Знаю, что когда ты обнимаешь меня, я чувствую себя как дома, и, Эдвард, ещё ни разу за двадцать шесть лет своей жизни я не испытывала ничего подобного… Что бы ещё там ни было, что ты делал или нет… это не имеет для меня значения.
– Ты так сильно меня любишь?
Страсть говорила в Белле, словно её подмывало высказаться по полной, хотя она удостоила меня элементарным:
– Да.
– Я не могу подавить в себе мысль, что ты заслуживаешь лучшего, – вымучил я. Белла была оплотом честности, и мне было больно, что я не мог ответить ей взаимностью. Многим – запрятанным, тёмным, рубцеватым, – из того, что скопилось во мне, я не собирался делиться; Белле нет нужды знать об этом. А моему прошлому – касаться Беллы.
– Я не хочу никого другого. Я хочу тебя.
– Но почему? Почему ты хочешь, чтобы я женился на тебе? И не говори, что это только из-за любви; на брак людей побуждает нечто большее, чем любовь.
– Но я… я уже перечислила тебе свои причины.
– Нет, не назвала, не до конца. Пожалуйста, Белла, ты должна объяснить это мне. Скажи мне, что ты хочешь.
Белла ответила не сразу, аккуратно, чутко выбирая слова. Наконец она заговорила:
– Мне комфортно с тобой. Уверена, что мы могли быть счастливы вместе. И… твой образ жизни импонирует мне; я хочу кататься с тобой на каяке посреди ночи и наблюдать за звездами. Я мечтала об этом… Думаю, некая, малая часть меня хочет сделать что-то, что шокирует мою мать; хочу посмотреть на ее лицо, когда сделаю что-нибудь непредсказуемое. Мне, правда, не хочется возвращаться к Чарли. Мне необходимо почувствовать перемену, словно я не очутилась там, где начинала… Но главным образом я больше не хочу быть одна.
В этот миг я осознал, каким будет мой ответ. Остальное – простые формальности – упорядочивание ожиданий, моя потребность в личном пространстве, пристрастия и пожелания Беллы.
Она вела себя честно. Намного искреннее всех, кто общался со мной с того давнишнего разговора с Карлайлом, который спросил, хочу ли я стать частью его семьи. Как и тогда, я пребывал в замешательстве, на грани малопонятного, но большого открытия. И беспокойство кольнуло в нутре, но я изо всех сил подавлял его.
Я мог сделать Беллу счастливой. Она не просила о чём-то грандиозном. Да, брак… но мне нет нужды воспринимать это так. По крайней мере, мы друзья – люди всё время женятся и с меньшим багажом. Всего лишь год, год, чтобы дать Белле немного покоя, своё место в этом мире. Из тех скудных сведений о ней я не сомневался, что никогда не заботился о ней. Я мог, мог дать ей всё недостающее. Правда заключалась в том, что я скучал по возможности о ком-то заботиться, о ком-то, кто бы нуждался во мне.
И, может, она могла осчастливить и меня. Я был одинок, даже если мне нравилось признаваться в этом, а с Беллой так легко было сдружиться. С ней всё воспринималось иначе, было иначе. Может, мы могли бы осчастливить друг друга.
Я не буду думать о том, когда год закончится. Я не мог.
—|—
Белла очаровательно свернулась клубком рядом, прижимаясь лоснящейся кожей к моей. Я чувствовал её сердцебиение – почти такое учащённое, но не настолько, когда мы отошли от экстаза.
Я прикусил Беллу за плечо, наслаждаясь интимностью момента. Такая хрупкая, такая мягкая. Это побуждало меня не торопиться, медлить; я ничто не завоёвывал, ничего не доказывал, кроме разве того, что хотел её. Так и было. Тихие звуки, ногти, слегка царапающие кожу моих плеч, подстёгивая… Мне нравилось лежать с ней после соития, прижиматься друг к другу влажными телами.
Я положил ладонь ей на щёку, нежно лаская. Тёплые пальчики Беллы скользнули по другой моей руке, затем переплетясь с моими пальцами.
– Приятно, – прошептала она, примащиваясь ко мне. Белла так сильно напоминала мне полосатую кошку, приютившуюся клубочком около меня и требующую моего внимания.
Которым я поделился с ней, оплетая руками и укладывая так, чтобы она полураспласталась на моей груди. Я не припоминал, когда в последний раз просто обнимался после секса – Таня этим не увлекалась. Всё было по-быстрому – наскоро схватить, поцеловать, получить, что ей нужно. В семнадцать это безумно возбуждало, но сейчас… что ж, объятия тоже приятны. Намного.
Многое изменилось. Белла отличалась от той изнурённой женщины, которую я впервые увидел поблизости от полицейского участка. Перемены начались, когда она переехала к Элис, и, как заворожённый, я наблюдал, как каждый день привносил больше естественного румянца к её щекам, округлостей – формам, мира – её глазам.
Неоднократно я задавался вопросом, решился бы я на первый шаг вместо Беллы. Той первый поцелуй… Я не ожидал такого от Беллы, взять бразды в свои руки; в прошлом я всегда был инициатором. Но, несмотря на дерзость и влечение к ней, было очевидно, что Белла не обладала внушительным опытом, а я боялся начинать то, что, возможно, чревато серьёзными ожиданиями со стороны девушки.
В Белле не было ничего легкомысленного, но, будь время, я посчитал, что между нами могут завязаться некие отношения, не важно, буду ли я притворяться или она изменит свои стандарты, поскольку как бы то ни было, эти искры чертовски сложно было игнорировать. По правде говоря, мне и не хотелось.
Я усилил хватку рук вокруг тонкой талии Беллы, и она услужливо пододвинулась ко мне. Боже, как хорошо. Её тепло, её аромат; я с трудом помнил, как воспринимался коттедж до её присутствия – как я существовал без этой девушки. Минуло несколько коротких недель, а уже всё успело кардинально поменяться.
Стало светлее, ярче; на смену отвратительным, разогреваемым в микроволновке ужинам пришли нормальные блюда, а вместо низкого гула телевизора – разговоры. Моя кошка шастала по дому, чёрт возьми,
мурча, потому что больше не коротала дни в одиночестве.
Как такое произошло?
Я не мог в этом разобраться; в один день я занимаюсь своими делами, как обычно навещаю Элис, и там Белла. Тихая, приятная, без особого успеха старающаяся не таращиться на меня долго. Я лишь обрадовался, что Элис завела подругу, так как беспокоился, как она справляется с одиночеством, пока её жених в Техасе.
А Белла воплотила в себе… всё, что показалось на первый взгляд. Искренность, доброту и неиспорченность, в глубине души радея за благополучие Элис. Чертовски удивительно, точно глоток свежего воздуха, было встретить человека, который был самим собой.
И наше общение шло как по маслу – вплоть до того момента, когда Белла призналась, что умирает. Затем всё резко, офигенно резко усложнилось. Но я никогда не пожалел, что согласился, даже сейчас, когда полностью осознавал значительность принятого в тот день решения.
Я потёр ладонью глаза и разочарованно вздохнул; непросто подобрать слова, описывающие Беллу, описывающие её значимость для меня. Каждая попытка заканчивалась отключенным, запутанным, охренеть как ошеломлённым сознанием. Так что я прекратил. Прекратил попытки навешать ярлык на то, что просто доставляло приятные ощущения.
Приятно было видеть Беллу каждый день. Возвращаться из студии и видеть, как она отрывает взгляд от лэптопа и смотрит на меня с широченной улыбкой на лице. Приятно было не разочаровывать кого-то на каждом шагу. Приятно ощущать, как её ладошки чуть касались моей шеи сзади, как сводяще с ума она смотрела, оглядываясь через плечо, на меня, и как задорно вспыхивали искорки в её глазах. Приятно – лежать не в одиночку в кровати. Боже, в этой кровати…
Если бы я только знал.
Если бы я только знал.
Если бы я только знал.
В той кровати Белла делала меня самым замечательным человеком. Она была изумительна – не как Таня со всеми уловками и инстинктом, соблазнительными движениями тела, способными пустить галопом сердце любого мужчины, и которая творила то, о чём Белла предстояло только мечтать. Но Таня никогда не краснела или хихикала, никогда не одаривала меня взглядом из-под полуприкрытых век, от которого я чувствовал себя единственным мужчиной, которого Белла желала, единственным мужчиной, который когда-либо видел эту раскрасневшуюся кожу и слышал её стоны.
Белла вызывала во мне эти чувства. Словно я был единственным, с кем она могла быть столь близка, столь уязвима. Будучи одним из многих мужчин Тани, я был сбит с толку тем, какой властью наделяло меня быть единственным.
Единственным мужчиной Беллы.
Потому что она хотела меня. Только меня.
Вера Беллы в меня потрясала до невозможности, обнажала меня в равной степени, как и делала уязвимым. Мне хотелось не подвести. Хотелось заслужить Беллу.
Я уставился на спящую фигуру Беллы, едва видимую в ночном свете, а узел в моей груди ослабился. Очень осторожно я потянулся смахнуть назад прядку волос, и Белла выпустила тихий звук и теснее прильнула ко мне.
Я долго бодрствовал в ту ночь, просто наблюдая за ней.
—|—
Прежде мне встречался туман, подобный тому, что покрывал озеро ранним утром. Как он приглушал звуки, коконом окутывая тебя. Раньше это вызывало клаустрофобию, но постепенно я привык к нему. И красота его заключалась отчасти и в том, как завитки пелены обвивали вершины гор, как он спускался в озеро до тех пор, пока ты не видел дальше полутора метров перед собой. Как придавал воде ещё более странный сине-зелёный оттенок.
Белла лежала в каноэ, лицом ко мне, ногой оплетая мою лодыжку, толстое одеяло, накинутое на плечи девушки, грело. Её веки были сонно приспущены, но она не воспротивилась, когда я поднял её из постели вместе с одеялом и остальным и отнёс к пристани, пусть и такую ужасную рань.
Но я хотел, чтобы она увидела туман. Не только из окна, но
побывав внутри, узнав, каково, когда пространство устлано только белым, увидеть, насколько прекрасным это могло быть, чувствоваться.
В лунном свете и без того прозрачная кожа Беллы приобрела призрачные очертания. Волосы ниспадали длинными тёмными косами, а сама девушка выглядела старомодно, словно фарфоровая кукла… или походила бы на неё, если бы не мерцавший в глубине глаз жар.
Мы не перемолвились ни словом, просто вслушивались в звук весла, рассекающего водную гладь. Я не отдалялся далеко от берега, главным образом потому, что не хотел застрять в озере на несколько часов в поисках нашей пристани. Время от времени мы слышали чириканье, из-за расстояния звук вышел искажённым и отдалённым.
Белла наблюдала за рябью, зыбью и всплесками вокруг нас. А я наблюдал за ней.
Ноты, тихие и нежные, нависли в воздухе надо мной, дразня, как и много лет назад.
Я всегда любил музыку, с тех ранних пор, как ребёнком Элизабет оставляла включенным радио, чтобы я не слышал, как её новый ухажёр поднимался к ней в комнату. Эта любовь осталась со мной, разрастаясь, пока я не мог отождествлять себя без неё, не мог не видеть её частью своей жизни. Но потом, при написании песни, я привык к борьбе с каждой нотой, каждым словом – это вымучивало, тратило время; обычно я сдавался на полпути, оставляя работу на следующий день.
Но в этот раз всё было иначе. Это были не просто случайные ноты или слова… всё вместе. Пылкое ликование пронзило меня, зародившись глубоко в животе и поднимаясь вверх. Все ментальные преграды, сдерживающие меня от написания, медленно распутывались. Я надеялся, что это продлится дольше этой поездки на каноэ, надеялся, что этот настрой останется.
Я хотел напеть мелодию, но одёрнул себя, не желая вызвать у Беллы подозрения; мало того что Фостер был её любимым исполнителем. Я предполагал, что мы дольше покатаемся на каноэ, но не хотел потерять путь. Безмолвно я стал направлять лодку к домику, осторожно вытащив Беллу и отнеся на террасу, чтобы она не застудила или не испачкала ноги. Я чмокнул её в кончик носа и отправился в студию.
В маленькую студию. Я построил её спустя несколько недель после переезда в Форкс на долгий период, убедившись, что у меня есть необходимые инструменты и материалы: пианино и гитара. Я обвесил длинную стену всем, что меня вдохновляло – фотографиями, словами, цветами радуги. Я едва оглянулся по сторонам, садясь за клавиши и наигрывая ноты, отчётливо звучавшие в моей голове.
Им требовалось богатство пианино – я сразу это понял, но пока что сойдёт. Ноты, ласковые, навевающие воспоминания, немного наивные выливались из меня. Без вокала – им он не требовался. Я улыбнулся, поражённый, как легко сочинялась песня.
Колыбельная Беллы.
—|—
С туманом в голове после сна я откинул одеяла и поспешно набросил толстовку.
Слабый звук вытянул меня из глубокого сна. Медленно я открыл глаза, рефлекторно и точно по привычке потянувшись за Беллой, но нащупал холодные простыни. Звук раздался снова, тихий крик доносился откуда-то снизу, в котором я мигом распознал Беллу.
На первом этаже стояли жуткий холод и зловещая тишина; единственным признаком присутствия Беллы был свет, льющийся из-под двери ванной. Только я собрался окликнуть её, как снова услышал звук – надсадный стон, пустивший мурашки по позвоночнику.
Я рывком распахнул дверь, и от открывшейся картины сердце ёкнуло.
Белла. Скорчившаяся в позе эмбриона на полу, крепко обнимающая худенькие плечики. Девушка лежала спиной ко мне, но всё же я заметил следы от слёз на её щеках, блестевших в ярком верхнем свете. На умывальнике лежал пустой бутылёк из-под лекарства по рецепту.
Белла дрожала, хилое тельце выглядело ещё хрупче прежнего. Слабее. Дерьмо, легко делать вид, что всё в норме, что в её сердце не росла опухоль, перекрывая кровоток. Поведение и внешний вид Беллы ничем не выдавали болезнь…
Я сотворил это с Беллой? Я всегда осторожничал и нежничал с ней, имея на то сотни причин, но по большей части боялся перегрузить её сердце. Неспешность и основательность действий помогали, но не в случае давления на сердце или причинения такой боли.
Резко и с надрывом Белла втянула воздух, отчего вина сокрушила меня. Девушка тряслась всем телом, тихо плача, покусывая губы, чтобы не закричать. Шагнув ближе, я в ту же секунду понял, что Белла ощутила моё присутствие в ванной. Она напряглась, отворачиваясь от меня дальше, несмотря на намёк на румянец, окрасивший её щёки цвета белой кости. Я сдержал улыбку: так типично, что Беллу смущает подобная ситуация.
Я упал на колени рядом с ней и неуверенно коснулся плеча, боясь по неосторожности навредить ей. Когда же она не уклонилась от моего касания, я стал легонько, вверх-вниз поглаживать её спину. Она не говорила: не могла, но стала постепенно расслабляться, а я – чуть храбрее и сильнее гладить. Наконец дрожь унялась, хотя Белла по-прежнему испытывала боль. Неосознанно я стал напевать её колыбельную, которая, видимо, произвела на неё утешающий эффект.
Я свернулся позади девушки, дыша в такт её судорожному, сбивчивому дыханию, когда наступал очередной болезненный приступ. Долгое время мы лежали калачиком. Я пересмотрел все варианты, которые могли бы избавить Беллу от боли, когда она, наконец, покинула её тело. Я наклонился и поцеловал её шею сзади с облегчением, что она до сих пор со мной.
Через некоторое время я взял Беллу на руки и отнёс наверх в постель. Она обвилась вокруг меня лианой, и какофония чувств, отгоняемая мной в ванной комнате, нахлынула вновь. Я знал, что у Беллы случаются приступы; по пальцам одной руки можно было сосчитать количество раз, когда её лицо белело и она тянулась за бутыльком, а затем шла наверх. Два, быть может, три раза. Белла скрывала это от меня? Были ли они такими же сильными, как только что виденный мной, или же обострились, потому что у неё закончилось лекарство? Я молился Господу на второй вариант – мысль о том, что Белла проходила через эту агонию еженедельно, ежедневно…
Без задней мысли я наклонился и прошептал ей в ухо, частично надеясь, что она спит.
– Белла?
Она не ответила, и я повторил её имя громче. Девушка не открыла глаза, повернулась ко мне, и её губы растянулись в одной из тех мягких, ласковых улыбок.
– М-м-м?
Она была измотана, устала как собака, но я знал, что если не спрошу сейчас, то упущу шанс. Утром она притворится, что ничего не произошло, а я не смогу забыть.
С того дня на елани я довольствовался её словами. Белла умрёт, однако я по возможности относился к этому как к отдалённой и абстрактной перспективе, потому что не мог вынести неприветливую реальность. Её окончательность. Но как я мог игнорировать увиденное? Теперь её болезнь воспринималась по-настоящему. И я должен знать.
– Эдвард? – позвала Белла, пока я молчал. Её голос был неразборчивым ото сна, тёплым, словно мёд.
Я собрался, хотя беспокойство просочилось в мой голос.
– Что мне сделать, Белла? – прошептал я, чувствуя мягкость её волос под пальцами, жаждущими держать её, хотя до меня медленно доходило, что я не могу. –
Прошу, скажи, что мне делать?
Я не знал, как поступить. Не знал, как быть с Беллой, как позаботиться о ней, как облегчить ей жизнь. Прохладные пальцы Беллы коснулись моей щеки в ласковом жесте.
– Ты совершенен.
Я приготовился возразить. Я был далёк от совершенства. Я оставил Беллу мучиться в одиночку. Я не поделился собой с ней. Я разрешил ей любить меня, в то время как не чувствовал ничего в ответ. Я даже не был готов подставить плечо, потому что Белла не хотела говорить о своей проблеме, а я не поощрял разговор, потому что подсознательно не хотел знать.
– Белла… – Она накрыла ладонью мои губы, не позволяя продолжить.
– Ты совершенен, – повторила она, крепость её голоса не оставляла места для дискуссий.
Она пыталась присесть, но самостоятельно ей это не удалось, так что я обвил её рукой и с лёгкостью усадил к себе на колени. Она свернулась комочком, утыкаясь лицом мне в грудь.
– Ты для меня всё,
всё.
– Кажется, этого недостаточно.
– Никто не делал для меня так много. Я… Знаю, что я не упрощаю тебе жизнь, но, честно, Эдвард, кроме… таких времён, со мной всё нормально. Сейчас это может казаться ужасным, но большую часть времени – нет, большую часть времени это совсем не больно.
Спасибо, Боже, хотя бы на этом. Мысль о Белле, корчащейся от боли, была невыносима. Так же как та, что она может утаивать от меня худшее.
– Я хочу заботиться о тебе, Белла. Не хочу, чтобы ты чувствовала потребность скрывать от меня что-либо.
Нечто тёмное, вспыхнув, промелькнуло на лице девушки, но исчезло раньше, чем я смог внимательнее изучить.
– Трудно… позволить кому-то другому заботиться обо мне. Я не привыкла к этому. И боюсь, что это – это несправедливо по отношению к тебе. – Ты на всё это не подписывался.
А она? Она просила мучений, грёбаной беспомощности? На ум пришло только одно рациональное предложение, способное унять тревогу Беллы.
– Белла, не забывай, что я согласился. Я знал, во что ввязываюсь.
По краткому вздоху стало ясно, что она не поверила мне, не до конца. Заговорила Белла быстро, тараторя:
– С тобой ведь всё будет в… норме? После… – запнулась она, – после того, как это произойдёт?
Честно – я не знал. Если бы я нашёл Беллу на полу в ванной сегодня, бездыханную во время приступа… Желудок ухнул. Когда настанет этот день, Господи, когда настанет этот день, я не знаю, что буду делать.
– Как я и сказал, я знал, во что ввязываюсь.
Это и близко не было похоже на правду. Я не догадывался, какую значимость обретёт для меня Белла, какую боль причинит мысль потерять её. Единственное, о чём я сожалеть не буду точно, так о том, что сказал «да».
Никогда.
—|—
Белла на земле.
Белла плачет, часто дышит. Ей больно.
И я. Беспомощный. Чертовски беспомощный. Всё случилось так быстро – грузовик вильнул на мою полосу, едва не столкнулись, потерял управление мотоциклом. Нас обоих вышвырнуло начисто, и моё тело болело во всех местах от удара об асфальт, но, превозмогая боль, бегло осмотрел Беллу на предмет сломанных костей и ран. Забрало её шлема треснуло и покрылось царапинами, но, помимо тонкой струйки крови на запястье, выглядела она нормально. Я испытал такое облегчение, что захотел утащить её к себе на колени, но не осмелился, пока не удостоверюсь, что она цела.
– Осторожно, Белла. Пока не двигайся. – Белла заёрзала, пытаясь присесть. – Ты в порядке?
– Не-не могу ды-ш-ш-ать! – сдавленно проговорила она, рвя ремешки шлема и, задыхаясь, всхлипывая. Я накрыл руками её руки в попытке усмирить бешеные движения, но Белла продолжала метаться подо мной. Я осторожно сманеврировал так, что моё тело нависало над её, обездвиживая. – Ш-ш-ш, Белла. Прекрати. Ты навредишь себе, – прошептал я, а мой пульс зашкаливал за сто миль в час.
Я оцепенел. Боже, ещё немного, и... но пронесло. Я вылупился на Беллу, убеждаясь, что она жива, охвачена паникой, но жива, но, по крайней мере, дышит. Осмотрительно я положил руку ей на грудь, чувствуя, как сердце девушки колотится и стучит, от чего вся её грудь пульсировала под моими пальцами.
Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо.
Успокойся, любимая, прошу, успокойся. Вот это моя девочка, дыши, вот так, вдох и выдох, вдох и выдох. До меня донёсся нечёткий гул голосов поблизости, но я не сводил внимание с Беллы. Я шёпотом нёс поток малозначимой чуши, слегка расслабившись, когда Белла стихла, а её дыхание стало равномерным. Видимо, она замкнулась в себе, с трудом встречаясь со мной взглядом, но мен это не волновало. Я всего лишь хотел, чтобы она была цела и невредима.
Когда она достаточно успокоилась, я аккуратно помог ей снять шлем и куртку и несколько минут спустя услышал благословенно-приятный звук сирен.
Фельдшер скорой помощи квалифицированно и осторожно проверял Беллу на травмы, тихо с ней разговаривая. Знаю, мне следовало поговорить с полицейским, который наконец-то появился на месте происшествия, но я не мог оторвать себя от Беллы. Её всё ещё трясло, а голос хрипел. И я всё ждал знака, что она не в порядке, что её сердце…
Я проследовал за медработником к карете скорой и, пока он рылся в сумке санитара в поисках бинта, я поинтересовался, в порядке ли Белла.
– Могло быть хуже. Ваша…
– Жена. Она моя жена.
Слова застряли в горле, и в шоке я понял, что впервые – себе и на людях – назвал её так.
– Что ж, ей очень повезло выбраться из аварии с одной лишь царапиной. Собственно, как и вам. – Я кивнул, едва расслышав слова врача.
Моя жена.
Я оглянулся на Беллу, которая по-прежнему сидела на земле, дрожавшая и неестественно бледная, слёзы прочертили дорожки на её щеках. Выглядела она напуганной, крошечной и невероятно ранимой. Хрупкой. Точно сломается сию секунду. А я преисполнился страстным желанием обнять её, не дать развалиться… потому что если разобьётся вдребезги она, то я и подавно. От несомненности этого факта нутро сжалось.
Если сломается она, тогда и я. Её боль передастся и мне.
Потому что я принадлежу ей. А она – мне.
Моя? Я никогда не хотел этого, никогда не просил, но Белла любила меня бескорыстно и всё ещё нуждалась во мне. Я вспомнил её, бледную и напряжённую, просившую меня жениться на ней, просившую меня сделать её своей. И я так поступил, потому что она мне нравилась… и потому что, честно, я пожалел её.
Но я не любил Беллу. Даже приходя в тёмный и тихий дом, где в постели лежала она, тёплая и желанная, я, страждущий, падал в её объятия, но не любил её. Или, по крайней мере, не осознавал этого…
Любил ли я Беллу? Любил ли всё это время и был глупцом и слепцом, не осознававшим этого?
Внезапно ноги понесли меня прочь, и я вскользь заметил, как фельдшер стал очищать и бинтовать порезы Беллы.
Я знал, что преуспел, обманываясь, но это было просто… Невероятно. И в то же время обретало смысл. Как я мог не влюбиться в Беллу? Она – лучшее, что случилось со мной.
Внезапно мной завладела решительность. К чёрту это, к чёрту правила, к чёрту притворяться, что Белла только друг. Как только выпутаемся из этой ситуации, я упакую её вещи и увезу в Лос-Анджелес. Утащу её туда, если понадобится. Карлайл знает всех в коллегии врачей, лучших из лучших; должен же быть кто-то или что-то, что может ей помочь.
Поскольку авария показала мне, что я больше не мог это терпеть, не мог продолжать пассивно принимать то, что ничего нельзя поделать.
И, Боже, может, состояние Беллы было не так плохо, как думала она. Если шок аварии не повредил ей… если имелся хотя бы малюсенький шанс, что я мог хоть чем-то помочь, то я потрачу до последнего цента всё своё наследство, к которому ни разу не прикасался за эти годы.
Потому что не мог – охренеть как не мог жить без неё.
Взглядом я отыскал Беллу вновь и упивался её видом. Хотел высказать ей всё, что вздымалось во мне, что я боялся, отчаялся и ошеломлён, но я безжалостно затоптал этот порыв. Внутри меня всё рушилось, но я стойко намеревался продержаться ещё немного, пока не останусь один и не обдумаю всё спокойно. Но, вопреки нерешительности, я не сомневался в одном.
Я любил Беллу. И меня тошнило от недомолвок и лжи. Тошнило притворяться, что Белла не больна, что я могу потерять её в любую секунду. Я хотел честности. Хотел шанс на настоящий брак с ней. Шанс обладать ей и любить.
И я ради этого я пойду на что угодно.
—|—
Я с трудом верил, что нахожусь в гостиной моих родителей и спокойно пью лимонад. Пускай и чужак, я удивился тому, чего не чувствовал. Я считал, что когда наконец-таки заставляю себя вернуться, то попадусь в ловушку из негодования и вины за то, что оттолкнул двух единственных людей, всегда безоговорочно поддерживавших меня. Но, сидя с Беллой и улыбающимися мне родителями, единственное, что я чувствовал – покой.
Я соскучился по умиротворению больше, чем осознавал, или, быть может, я понял, что чересчур упрямился, чтобы признать это. Постепенно до меня начало доходить, как сильно я отгородился от них за почти два года отъезда.
Я преуспел в подавлении нежеланных чувств – злости, одиночества, горечи… даже любви. Я закрывался от всего, что могло навредить мне, даже от зачатков вреда, но, к счастью, я не испортил безвозвратно отношения с родителями. Я не знал, почему они не бросили меня за все эти годы выходок, и радовался этому.
Самым сложным оказался первый звонок Эсме. С момента исчезновения в Форксе периодически я связывался с родителями, по обыкновению, проще всего через электронную почту, но голос матери вернул всё на круги своя. В итоге тем вечером мы проболтали два часа – чем я занимался, где жил, даже затронули причину моего ухода. Я улыбнулся, вспомнив, как рассказал им о Белле, – не целиком историю, но достаточно, чтобы мама знала, насколько важна Белла для меня.
Разговор с Карлайлом оказался таким же сложным, хотя по иным причинам.
Он злился на меня за уход, за доставленное Эсме беспокойство. Я попытался объяснить обуревавшие меня тогда чувства, как мне требовалось сбежать от отца и забыться. Может, двадцать семь – странный возраст для кризиса личности, но… я как можно дольше старался жить в тени отцовской славы. Случай с Таней стал последней соломинкой.
Нелегко было расти сыном столь идеального человека, которому беспрепятственно давались вещи, сводившие меня с ума. Он отмахивался от неудобств, пришедших с известностью, как от мух: от долгих часов, от внимания, полной потери личной жизни. Может, поэтому он чувствовал себя рыбой в этой среде, потому что заслужил.
Я постарался объяснить, как боролся с гневом и виной, как ненавидел, что не мог поблагодарить Карлайла за всё, что мне он дал. Особенно то, что, в конечном счёте, он желал мне и Эсме только счастья. Как я мог ненавидеть кого-то, так сильно любящего вас?
А я мог только отдалиться и терпеть гнев, и впервые за эти годы я почувствовал себя уверенным – в своём окружении, в своей шкуре, перед лицом родителей. Я хотел пойти домой, хотел показать Белле всё, что сформировало меня таким, а это начиналось с родителей.
– Пойдём, Белла, – позвал я жену после того, как родители ушли заканчивать приготовление ужина на кухне. Мы проболтали почти целый час, и разговор прошёл легко, чем я надеялся, пускай он и был лёгким, поверхностным, ознакомительным. До дерьма ещё успеем докопаться.
Я взял Беллу за руку и подвёл к старому, истёртому пианино, стоящему на другом конце комнаты. Оно немного выбивалось из модно отделанной, точно сошедшей со страниц интерьерного журнала, комнаты, но я знал, что Эсме ни за что на свете не променяет его на нечто более глянцевое.
На этом пианино я учился играть, оно хранило сотни хороших воспоминаний для меня. Бывали вечера, когда я робко демонстрировал родителям песни, выученные на занятиях, или когда мама приносила мне печеньки во время упражнений. Я по-прежнему считал, что это пианино ласкало слух издаваемыми звуками, а не остальные, на которых я играл после.
Я сел на скамеечку и жестом пригласил Беллу присоединиться ко мне.
– Думаешь, я нравлюсь твоим родителям? – подпихивая меня локтём, очаровательно кротко смотря на меня, спросила Белла.
– Они любят тебя, – уверенно ответил я, проверяя настройку пианино, но, разумеется, Эсме постоянно заботилась об этом.
Белла скорчила рожицу и сухо улыбнулась.
– А тебе-то откуда знать наверняка.
– А я вот знаю. Перед уходом мама подмигнула мне.
Несмотря на то, что я говорил себе не придавать этому значения, всё равно радовался, что всё налаживалось. Не секрет, что маме не нравилась Таня. Хотя Карлайл двойственно относился к ней – что делает меня счастливым, осчастливливает и его, а Эсме было не обдурить тем, что у нас с Таней якобы всё хорошо.
Тепло разливалось по телу при мысли, что с Беллой нет нужды прикидываться. Изредка мы спорили, каждый из нас нуждался в личном пространстве, но при этом мы в равной степени нуждались друг в друге.
Я глянул на руки Беллы, на сверкающий солитёр, который я надел ей на палец в довесок с обручальным кольцом. В конце лета мы собирались вернуться в Форкс и обновить клятвы, на этот раз с семьями и друзьями. Так правильно, словно следующий шаг в этом странном, задом наперёд пути, который мы выбрали.
– Погоди, мы ещё не рассказали им историю нашего знакомства. – Белла закатила глаза, пунцовея. – Поглядим, подмигнёт ли она тебе потом.
Придётся исхитриться, но я не сомневался что романтик в душе, мама будет очарована. В конце концов. Я пожал плечами и наклонился поцеловать Беллу в висок, наигрывая уже знакомые ноты.
Ласковая улыбка изогнула полные губы Беллы.
– Моя колыбельная.
Пару мгновений мы слушали, а яркий солнечный свет наполнял комнату. Это так отличалось от нашей жизни в Форксе. Ярче, насыщеннее, но мы поговорили об этом и решили, что готовы к приключению… и, когда станет невмоготу, мы всегда можем сбежать в наш коттедж у озера.
– Не верится, что ты написал мне песню, – прошептала Белла, кладя голову мне на плечо. – Фостер сочинил мне песню.
Она не поверила, онемела от шока, когда я впервые рассказал ей. Я рассмеялся от воспоминания; Белла, и глазом не моргнув, приняла что я – Фостер, но не мысль, что я мог написать ей песню… Боже, она идеальна.
– Она прекрасна, – прошептала она, когда я закончил.
– Как и ты.
Белла снова закатила глаза, но усмешка на лице любимой подсказал мне, что в то же время ей нравилось слышать комплименты в свой адрес. Я только собрался поцеловать жену, как мама позвала нас к столу.
– Готова? – поинтересовался я, предлагая ей руку и помогая встать со скамеечки.
Белла улыбнулась мне, сияющая и живая. Я не знаю, чем я заслужил это чудо, иногда я до сих пор ощущал потрясение, нервозность оттого, что этот пузырь счастья лопнет, и я останусь ни с чем. Но когда такое случалось, мне хватало одного взгляда на Беллу, и я понимал, что так и есть. Всё идеально.
Белла взяла меня за руку и легонько сжала. Уже тогда я знал, что наши чувства взаимны.
LttS
Наконец мы побывали в голове Эдварда, узнали его мысли насчёт всей этой... авантюры? Ваши мысли с удовольствием почитаю тут (благо, появилась удобная функция оповещения) и на форуме.  Также в шапку добавлены ещё интересные авторские материалы.
Также в шапку добавлены ещё интересные авторские материалы. 




































































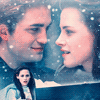








 Также в шапку добавлены ещё интересные авторские материалы.
Также в шапку добавлены ещё интересные авторские материалы. 









 Спасибо за главу!
Спасибо за главу!
