Глава 3.
Ошибки. Никогда не думала, что моим роковым днем станет… воскресенье. *** Я все чаще думаю о том, что мое заточение не похоже на… Оно не… Я даже рада, что все происходит именно так, а не иначе. Эдвард заметил меня. Он думает обо мне. Я - его помеха, заноза, вечный раздражающий фактор, и рада этому, потому что люблю его, а он ненавидит меня, и лучше так, чем если бы я была никем! Потому что я люблю его. И я переживу его ненависть, если это все, что Эдвард может мне дать. Я все переживу, кроме отсутствия его в моей жизни. Наверное, за эти короткие дни я вымарала в Алисе больше надписей, чем за всю предшествующую жизнь. Строчки, написанные дрожащей рукой, сперва покрывают страницы книги, прямо поверх печатного текста, а следом безжалостно зачеркиваются, так, что некоторые страницы пестрят дырами.
Впрочем, некоторые надписи, как например эта, остаются на своем почетном месте. Просто меня слишком мало, чтобы вместить напор чувств, и они выплескиваются из меня – на бумагу, в окружающее пространство, в странные желания.
Например, вместо этого подоконника, на котором я регулярно отмораживаю себе пятую точку, хочу себе французское окно. На всю высоту стены. Чтобы потом распахивать его настежь и впускать внутрь надоевший снег с дождем, и действовать ему на нервы, и молча дерзить, пока он не обидится и не уйдет сам. Я не расстроюсь, если не прощаясь.
И, раскрывая зонт, я стану выходить через этого окно на улицу. И смотреть сверху вниз и думать про то, что странно, в общем, что квартира наша на втором этаже.
Но день за днем продолжаю сидеть на всё том же подоконнике, глядя на Каллена. Иногда я ставлю ноги на подлокотник его кресла и украдкой касаюсь кончиками пальцев его локтя. И за эти краткие мгновения я готова простить Каллену многое, очень многое. Например, его безразличие. То, что рядом с ним мне хочется петь, а он сидит и читает, будто меня нет рядом. Дышит ровно, когда я хватаю воздух, как тонущая. Сухими пальцами листает одну страницу за другой, а я сижу рядом и горю, горю, сгораю...
Мы окончательно вошли в колею совместной жизни. Пробуждение. Еда. Сон. Совместные вечера. Редкие разговоры.
Завтраки теперь являются гораздо более приятным времяпровождением. Мы больше беседуем, правда, осторожно выбирая темы - вроде погоды, словарного запаса, книг, здоровья, моего желания завести животное (Каллен упорно не соглашается), и тому подобного.
Каллен стал гораздо меньше хамить, а я стараюсь сдерживать свое любопытство и держаться подальше от личных тем – такие разговоры у нас пока ничем хорошим не кончаются.
Как-то раз я спросила у Каллена, знает ли он, где сейчас настоящие его родители. Он как-то сразу весь подобрался в кресле, а такого затравленного выражения глаз я не видела у него ни разу в жизни. Глаза Каллена черного цвета – такого оттенка, который можно найти в банке с краской или увидеть в тени. Но в тот момент – этот черный был не оттенком цвета, а тем, что осталось после того, как весь цвет высосали.
На вопрос он так и не ответил – просто захлопнул книгу и ушел в свою комнату. После того злопамятного вечера мы два дня не разговаривали.
А потом, после одной из своих прогулок, он притащил мне… нет, не кошку, не щенка… а кактус - мохнатое чудовище, заросшее щеткой колючек.
- Привет, Свон. Это кактус. Он теперь твой. И не начинай свое «Какого черта?», побереги мои уши. Если не нравится, я сделаю из него текилу.
- Мне нравится, - ответила.
- Вы сойдетесь характерами, - криво усмехнулся Каллен.
После этого мы вновь начали общаться, делая вид, что этих двух унылых дней не было. Больше к таким темам мы не возвращались, и хоть мой интерес и не был удовлетворен, я молчала.
У каждого внутри свой ад. Мне ли не знать.
Ни у одного из нас нет особого опыта налаживания отношений, нет особого рецепта, как вести себя друг с другом. Мы просто притирались друг к другу, пока не научились сосуществовать, не раня в самое сердце. А теперь мы стали частным владением, вытоптали друг в друге тропинки, научились обходить заросли терновника и гнилые болотца, узнали, какие цветы, и в какую пору расцветают в укромных уголках наших душ… и как заставить их увять одним ядовитым плевком.
Нет, мы определенно не следуем сценариям, позволявшим выстроить нормальные отношения.
Одно меня радует и удивляет одновременно: я совершенно не страдаю. Даже как-то… неприлично. Если есть безответная любовь, то все должно быть по полной программе: тоска, сжимающая сердце, истерики, мокрая с двух сторон подушка и, разумеется, горы шоколада. Хотя, без последнего я бы с удовольствием обошлась – никогда не любила сладкое. У этого есть свои причины.
В детстве я не любила конфеты из гордости. Наша семья была не из богатых, и у меня никогда не было столько конфет, сколько хватило бы, чтобы наесться, и поэтому я предпочла просто делать вид, что мне нет до них никакого дела. Иногда я так искусно убеждала себя в этом, что сама начинала верить в обман. А потом конфеты стали досягаемы, но есть их уже не хотелось.
Причиной послужили те приторно-сладкие микстурки, которыми пичкали меня в Центре, и неизменный липкий шоколад, которым меня угощали из жалости…
У меня быстро выработался однозначный рефлекс на всё сладкое – страх. И ничего с этим поделать было нельзя. Когда я поняла причину своих мучений, то перестала класть сахар в кофе, и сразу почувствовала себя почти счастливой.
Я до сих пор пью только горький кофе.
За всеми этими завтраками, кактусами, разговорами и водоворотом ощущений дни летят незаметно. Но, едва я успеваю втянуться в эту очаровательную рутину, как все вновь переворачивается с ног на голову.
*** Господи, как жарко. Я поднимаю голову и смотрю на небо – солнце висит высоко над головой, вокруг меня дрожит раскаленный воздух, и хочется потереть кулаками глаза, чтобы избавиться от этого тревожного марева. Ветер треплет волосы, швыряя их в лицо, но желаемой прохлады не приносит.
В отдалении слышно множество голосов, журчание воды, чьи-то шаги. Я отстраненно думаю, что где-то совсем рядом со мной ходят люди, зовут меня, но это знание не приносит никакой тяги к действию. Я сижу на горячем песке, зарываясь в него пальцами ног, и смотрю, как передо мной колышется воздух. Песчаная коса уходит далеко-далеко в воду, а на противоположном конце сидит, сложив на коленях руки, Эдвард.
Я разглядываю его фигуру, такую черную на белом песке, угольный росчерк, но не могу видеть его лицо. Море задумчиво лижет его ступни, шурша, то набегает, то откатывает. Мне почему-то кажется, что там, над головой у Каллена сумрачно тихо и голосов не слышно, только море.
Эдвард сидит на песчаной косе, далеко от меня, и я – впервые в жизни не могу дотянуться до его чувств.
Внезапно меня кто-то окликает совсем близко, за спиной, но, когда я оборачиваюсь, там никого нет. Когда я поворачиваюсь обратно, там тоже пусто. Никого, кроме меня на песчаной косе.
В воде мелькает темный силуэт. Этот сон я запоминаю, как ни странно, не из-за тревожного содержания, а из-за своего пробуждения. Точнее, из-за событий, последовавших следом, поскольку я не помню, как проснулась. Есть только ощущение, что меня буквально выдернуло из сна, а в следующую секунду я уже стою в дверях гостиной, уперев руки в колени, пытаясь вспомнить как это – дышать. Я пристально смотрю на фигуру Каллена, сгорбившуюся в кресле.
И не знаю, что делать. Простишь ли ты мне жалость, железный ты человек? Делаю несколько шагов и останавливаюсь рядом с креслом Эдварда. Он сидит в нем, бледный, с остановившимся взглядом, смотрит в одну точку перед собой. И нет ничего в его взгляде, кроме пустоты и обреченности. Такой взгляд я видела лишь однажды, и события, последовавшие за этим взглядом, были одними из самых страшных в моей жизни. Сейчас, в точности как и тогда, мне видится пропасть одиночества, в которую медленно, как осенний лист, падает Эдвард, и ему никогда уже оттуда не выбраться… Я закусываю губу - жалость пронзает как острое лезвие, так что почти физически больно.
Я делаю большую ошибку, когда пытаюсь проверить эмоции Каллена.
Бледное нервное лицо, странно-искривленные губы и ставшие вдруг огромными черные глаза заслоняют мир. Страшно.… Сейчас даже крохотный мирок, сузившийся до размеров этой комнаты-тюрьмы, кажется жизненно необходимым. Но он словно начинает растворяться, рассыпаться как старая ветошь, а из-под него проступает какая-то дышащая грязная муть. Живая, пульсирующая, она постепенно заполняет собой комнату и подбирается ко мне. Я открываю рот, чтобы закричать и грязь тут же заполняет горло, заставляя сглатывать, заполняя желудок. Меня затягивает. Еще чуть-чуть и.… Вокруг темно, а перед глазами мелькают маленькие юркие искорки — черная жижа вокруг обволакивает, наполняя собой легкие. И все это в мертвой тишине. Я вдруг думаю, что если я упаду и забьюсь в агонии, Каллен даже не заметит. Страх придает сил, и я делаю первое, что приходит в голову – хватаю бутылку Эдварда и делаю несколько крупных глотков прямо из горла. Алкоголь обжигает горло, пищевод, заполняет пустой желудок, и у меня снова все плывет перед глазами. Это неважно. Это помогает отвлечься.
Я начинаю говорить. Слова срываются с языка неожиданно легко и приятно, падают в тишину комнаты, служат мне спасительными якорями, такими нужными сейчас. Но вряд ли хоть один из нас осознает сейчас, что именно я говорю. Эдвард слишком пьян и слишком погружен в свое горе, а я…
Я слишком погружена в ощущение его тела. Оно горячее, как если бы у Каллена был жар, и я ощущаю это тепло даже там, где стою. От его запаха щиплет в глазах, и вдруг мучительно ноет сердце. На какую-то безумную секунду мне кажется, что никогда не было в мире никого, кроме Эдварда, и все прочее было лишь воспоминанием о нем, воспоминанием о будущем. Это чувство настолько сильное, настолько кружит мне голову, что я совершаю самую важную в моей жизни ошибку.
Когда Эдвард тянется ко мне, в его глазах ясно виден отблеск тех мостов, что он сжигает в этот момент. А я ничего не предпринимаю, и уже в следующее мгновение я вжата в его тело, чувствую его пульс, его твердую грудь, вздымающуюся в каком-то бешеном ритме, пока меня целуют так напористо и жадно, что я теряюсь, оглушенная силой чужих эмоций.
Это именно тот поцелуй, который мне следовало ожидать от него. Жесткий, непримиримый, доминирующий и настолько голодный, что это почти болезненно.
Я не отвечаю, едва удерживая хвосты разбегающихся в панике мыслей и эмоций, и это позволяет Каллену продолжать. Пока способность соображать не потеряна, я пытаюсь отстраниться, уйти от не дающего сосредоточиться напора, но движение выходит неуверенным. Эдвард только прикусывает мою губу и настойчиво проталкивает язык внутрь сквозь приоткрывшиеся зубы.
Спустя мгновение я окончательно теряю голову.
С каким-то смешанным чувством изумления, страха и наслаждения отвечаю на этот исступленный поцелуй, испытывая мстительное удовольствие от понимания того, что каждый мой шаг и каждое движение подхватываются с еще большим жаром.
У Эдварда очень тонкая кожа у губ – правда, такая тонкая, что заходится сердце. Губы, от которых не оторваться. Он уступает, поддается, позволяя доказать себе, что поцелуи еще слаще в единстве зубов, языков, горячего дыхания. Я прижимаюсь к нему, согревая и согреваясь, и сердце твердым горячим сгустком пульсирует двойным биением прямо под ребрами. В голове словно лопаются мыльные пузыри, разлетаясь каплями острого удовольствия.
Рывок до спальни напоминает преодоление бегуном финишной прямой, вплоть до красной ленточки. Ленточкой послужила кровать, на которую мы приземлились тесно сплетенные и обезумевшие.
Это трудно даже назвать страстью. Просто словно кто-то снял заслонку, вытащил стержень: нас притянуло друг к другу резко, сильно, как два магнита – нас просто дернуло друг к другу.
Грудь Эдварда тяжело вздымается, и мне слишком хочется пройтись по ней, да, вот так, до манящего соска, дотронуться, чтобы лишить дыхания и самой перестать дышать. Он сейчас так красив, неестественной, инопланетной красотой, мой Эдвард.
Стянуть с него джинсы и увлечь на себя, обхватывая его бедра ногами. Выгибаться, просить, требовать, настаивать, подаваться навстречу, царапать, прикусывать, проводить языком по ключице…
Просто потому, что сейчас нам можно все.
Дальше все происходит, словно в череде сменяющих друг друга картинок. Эдвард настойчив и становится все нетерпеливее. Он целует меня - грубо, если бы я обращала на это внимание. А я не обращаю. Он жадный, а я отдаю. Бери, мне не жалко, мне все равно ничего не надо. У меня все равно ничего нет.
Во имя всего святого, какой же он весь острый, и острый язык, этот колючий, дьявольский-прекрасный-умопомрачительный язык ласкает мочку уха и шею. А голова моя запрокинута уже так далеко, что я соприкасаюсь с реальностью только затылком и крестцом, зато с Эдвардом я соприкасаюсь всем остальным.
Когда он начинает двигаться во мне, утыкаясь лбом куда-то между шеей и плечом, и его шумные горячие выдохи ложатся на мою кожу, я задыхаюсь. Во мне бродят токи удовольствия, бегут по нервам снизу вверх, рассылаются, перекрещиваются и замыкаются. Я обвиваю руками плечи Эдварда и подаюсь ему навстречу.
Неловко – да. Неуклюже. В голову сразу приходит определение «недостойно». И с ритма сбились.
Это потрясающе.
И пусть это всего лишь очередной способ решения проблем, пусть это – рецепт от сумасшествия, он ведь работает. Пока я извиваюсь на кровати, давлюсь воздухом и стонами, впиваясь пальцами в его плечи, пока с губ Каллена срывается мое имя (не думай обо мне, не думай обо мне, это слишком сильно, слишком, слишком, слишком…), пока по-нарастающей накатывает, приближается оргазм, я чувствую себя правильно. Меня занимаемся сексом – и это правильно. Потому что каждый из нас по отдельности – лишь половина нормального человека. Соединяя этот нелепый паззл, можно получить одну полноценную личность.
В тот момент, когда я сцеловываю свое имя с губ Эдварда – они горячие и пересохшие – сколько бы я их не вылизывала и не кусала: будто паливший жар испаряет влагу в мгновение ока, мне кажется, что счастье совсем рядом, и, вот сейчас, сейчас я его ухвачу, поймаю, и мы станем счастливыми раз и навсегда, Эдвард, слышишь, Эдваррррд…
Мое «навсегда» вспыхивает безумно длинными, но такими короткими секундами, прокатывается обжигающей волной жара по коже, отзывается глубоким низким стоном Эдварда по всему телу. И теперь есть несколько минут, когда мир еще не начал свое вращение, когда слышно лишь наше дыхание и стук его сердца.
В эти минуты я спешу оплести его тело своим, обхватить его вместе со всеми ребрами и бледной кожей, сжать, как наркоман сжимает драгоценную дозу. Украдкой положить голову на плечо. Мне как-то очень плохо и хорошо, мне непонятно… Тоскливо и радостно.
И обидно, что все закончилось так быстро.
Я сейчас слишком, слишком близко, настолько, что если подниму голову - увижу его черные зрачки и свое расплывающееся отражение.
Я не делаю этого - мало ли, опомнится, вырвется, и как я тогда? Мне хочется, чтобы он был рядом, когда я усну.
Пожалуйста.
Мир вокруг меня – это стучание капель зимнего дождя по окну, смятые влажные простыни, темнота в комнате, дыхание Эдварда, стук его сердца и моя ладонь сверху - иллюзия моего им обладания – все замирает на последние мгновения, а потом потихоньку начинает вращаться, убаюкивая меня.
Я хочу спать.
Но еще больше я хочу никогда не просыпаться, навеки уснув под боком у Каллена. Форум
|







































































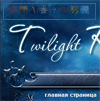 ...что на сайте есть восемь тем оформления на любой вкус?
...что на сайте есть восемь тем оформления на любой вкус? ... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в
... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в 









