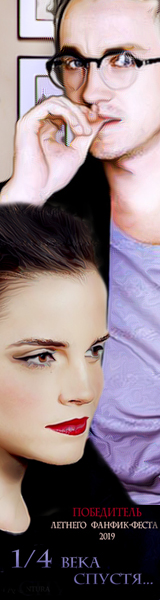Небрежно толкнув за собой дверь, Гермиона даже не вздрогнула, услышав, как та захлопнулась с глухим стуком. Небрежно брошенная на пол сумка не устояла и перевернулась на бок под тяжестью содержимого, тут же высыпав на пол в спешке запиханную внутрь фотографию. Вяло передвигая ногами, она подошла к шкафу, на ходу снимая плащ и разматывая черти как повязанный на шею шарф. Механическим движением отодвинула дверцу и убрала одежду. Крепко держась для устойчивости за деревянный угол сняла сапожки и отодвинула ленивым движением чуть в сторону. Так же размеренно подошла к трюмо, с безразличием окинув взглядом стену, что, казалось, все еще горела от жара ее тела, которое с такой силой чуть меньше суток назад вжимали в ее бетонную поверхность.
Покачав головой, чтобы прогнать ненужные мысли, Гермиона перевела взгляд на свое отражение. Все было нормально: лицо все еще ее – немного усталое, немного грустное. Определенно похудевшее, но все еще ее. Те же темные глаза, что и всегда. Слегка покрасневшие прожилки в белках, чуть стеклянный взгляд. Но все тот же – карий с золотистыми крапинками вокруг зрачка. Губы заветрелись, но только если присмотреться; уголки потрескались и чуть опущены. А в целом – все еще Гермиона Грейнджер.
Грейнджер.
Прошло уже столько времени, но каждый раз ее фамилия, та, с которой она родилась, та, которая определила ее судьбу в Волшебном мире, звучала неправильно, причиняла боль. И это было так забавно, ведь и будучи Малфой она не чувствовала себя комфортно, представляясь кому-то полным именем. Словно с замужеством она перестала принадлежать одной стороне, но так и не прикрепилась к другой. А теперь, с разводом, осталась на перепутье, но не имела выбора, в каком направлении пойти.
Она так себя и чувствовала: застывшей, замершей на месте между двумя полюсами. Только ее полюса были ближе, чем казалось. И она – словно маленькая фигурка, попавшая в дикое ущелье. Узкий проход между двумя огромными скалами то и дело заваливался, то тут, то там слышался грохот падающих вниз с огромной высоты и со всей силы разбивающихся о каменистое дно расщелины осколков – нелепых обвинений. Будто бы два титана всем своим видом показывали, что ей не место между ними. Но и с ними она быть не могла. Потерявшаяся, продрогшая и напуганная. А теперь еще и разбитая.
Голова раскалывалась и отражение перед глазами слегка поплыло. В висках болезненно стучало и организм во все горло кричал и молил об отдыхе. Слишком много информации, которую нужно было переварить, но которая никак не хотела подчиняться и отойти на второй план хотя бы ненадолго. Мысли летали словно пчелы в банке: ударялись о стенки, раня себя и подталкивая все с большим остервенением искать путь на волю, а не находя – продолжали еще более настойчиво бороться за свободу. Мелькающие перед глазами круги, словно рябь на воде, то появлялись, озаряя все слепящими вспышками, то исчезали, погружая ненадолго в сумеречную темноту.
Гермиона потянулась левой рукой к правому запястью, чтобы снять часы. Левшой она не была, но в последние годы стала носить их именно там. Занемевшие пальцы не слушались, а набирающий силы звон, стоящий в ушах, подталкивал и подталкивал поторопиться. Ремешок застрял в кожаных шлевках браслета, не желая высвобождать затекающую руку. Сломав ноготь, она продолжала дергать вдруг заупрямившиеся оковы, пока не выдернула гвоздик, удерживающий один конец, из основания. Погнувшийся стержень был безнадежно испорчен, но дышать стало легче, когда рука освободилась от сдавливающего кожу браслета.
Раздраженно откинув снятый предмет, Гермиона подняла руки, чтобы вытащить из мочек сережки. Обычные маленькие гвоздики из белого золота, простой небольшой белый камень. Она в принципе не видела смысла в прокалывании ушей, но мама настояла – отвела восьмилетнюю дочку в салон, где ей специальным пистолетом вставили два похожих гвоздика. Только те были специальными – из особого металла, чтобы заживление проходило лучше. Гермиона ненавидела боль, отзывающуюся где-то в нервном окончании затылка, когда переворачивалась на бок. В первое время из-за этого приходилось спать только на спине, отчего с утра ее спина ныла так, что весь день казался сразу же хмурым и унылым. Но дочь Джин Грейнджер должна была «быть не только умницей, но и красавицей», и пока маленькая Гермиона не понимала всего, то молча соглашалась с каждым ее словом. Но и это было так давно…
Следом за сережками настала очередь колец. Их Гермиона надевала только выходя из дома, в остальное же время предпочитая давать рукам отдых. Единственное украшение, которое всегда было на пальце, которое ни в коем случае не снималось и грело душу и взгляд в любое время дня и ночи, – обручальное кольцо. Но носить его теперь было бы неправильно, даже глупо. Поэтому, едва бракоразводный процесс закончился, она сняла его и переместила в другое место – продела сквозь него цепочку и повесила на шею. Тогда гладкий металл стал греть только замерзающую все сильнее с каждым месяцем грудь. А теперь, казалось, даже естественной теплоты тела перестало хватать, чтобы нагреть золотой ободок – он неприятно холодил местечко между грудей, настойчиво напоминая о себе.
Возможно, это знак, что пора и его снять, подумала Гермиона, вытаскивая из выреза блузки «подвеску». Повертев колечко меж пальцев, она позволила себе еще раз прокрутить сцену, приключившуюся менее пары часов назад. Она никогда не видела Драко таким – злым и одновременно сломленным. Он не подавал виду, говорил о другом, но она видела это в его глазах – ее бывший муж был сломлен, признавая одному ему понятную правду. Но даже сжимающей сердце тоски не хватало, чтобы перебороть ее собственную злость на него. Гермиона всегда была достаточно твердым человеком, спокойным, рассудительным и справедливым. Черт возьми, она вошла в историю Гриффиндора не просто так! Но никакого благородства и терпения не хватало смириться с тем, что человек, которому она клялась в верности перед лицом господа, семьи и друзей, мог подумать о ней столь низкий образом.
Гермиона буквально чувствовала, как странное осознание горькой правды просачивается сквозь поры, въедаясь в органы острыми шипами. Как лопается от их натиска внутри что-то важное, что-то живительное. Как медленно в ней умирает, сгорая дотла, разлетаясь пеплом, вылетая с рваными выдохами. Все заботы отошли на второй план. Тело больше напоминало желейнообразную массу, неспособную удержаться на подкашивающихся ногах, но простуда тут была совсем не при чем. О ней Гермиона уже и думать забыла. Голова, вдруг ставшая такой тяжелой, словно озарилась – через пробоины лился свет, освещая с болезненной ясностью всю абсурдность ситуации. Неприглядная правда перевешивала обиду за несправедливые унижения, за незаслуженно полученную боль. Она затмевала взор, щедро омывая мир вокруг алым цветом. Хотелось крушить все, что только попадется под руку. Хотелось догнать Малфоя и ударить его, чтобы щека стала красной, чтобы на этот раз все-таки сломать его чертов аристократичный нос! Хотелось забыть и никогда не вспоминать сцену умело разыгранного кем-то спектакля…
= ПАУТИНА =
Первые минуты оцепенения прошли, и Гермиона пришла в себя. Вскочив на ноги, она смахнула со стола аккуратно разложенные документы. Слетая с гладкой поверхности, бумаги зацепили подставки для перьев и ручек, которые последовали с той же скоростью вниз. Но даже окруженная этим грохотом, стоящая средь белоснежного листопада, она не могла насытить зверя, рычащего в ее груди и требующего большего. Гнев пульсировал и разносился по телу с призывными волнами. Вслед на пол полетели книги из ближайшего шкафа, туда же последовали многочисленные кубки и награды, ордена и медали – все бесполезные железки и подарки за ее лучшие качества, проявленные в войне, а затем и в работе. Все это – пустой звук, не имеющий заслуженного оправдания. Если она действительно была такой славной, такой умной, такой бескорыстной и сильной, такой честной и хорошей, то почему – почему, черт возьми?! – ее муж так легко поверил в столь гнусную ложь о ней? Почему позволил злым языкам отравить его любовь к ней? Почему убил
ее любовь, задушив беспощадно и жадно голыми руками, жестоко растоптав то, что осталось?
Шквал яростных «почему» вышел наружу с сильным выплеском стихийной магии, разнеся не только ее кабинет, но и покорежив стены соседних, зацепив коридор. Звон стекла оглушил едва ли не сильнее, чем сам взрывной выброс. Но Гермиона не слышала его. Осев на устланный обломками ее жизни пол, она горько расплакалась, позволив себе не тихие слезы, а громкие стоны. С криком раненого животного она оплакивала всю свою такую недолгую и одновременно бесконечную жизнь, в которой, видимо, не было места счастью.
Она плакала обо всем, что могла вспомнить: о непреклонности и жесткости ее матери, которую в детстве считала просто гиперзаботливой, не видя ее истиной природы. О первых неудачах в маггловской школе, где все дети смеялись над ней и ненавидели – уже тогда, еще не зная о том, что принадлежит другому миру, Гермиона была чужой. Она плакала о Роне, который так больно ранил ее на первом курсе, потом – не шестом, снова – в самые тяжелые для Трио времена, и добив ее после. О Драко, который называл ее грязнокровкой почти половину своей жизни. О погибших из-за Волдеморта и его жажды власти. О Гарри, которому в той войне досталось больше всех. Плакала от счастья за свой брак и тут же – от горя за его разлад. О родителях, которых не видела долгие месяцы и которые так отдалились от нее, поняв, что теперь она – волшебница, а не просто их дочка. Плакала из-за Нотта, который с каждым днем позволял себе все больше и заходил все дальше. И за правду, незнание которой держало ее на плаву, а теперь убило окончательно, провернув в уже раненом сердце отравленный клинок.
Ей не нужен был повод, но она цеплялась за каждую жалостливую мысль, надеясь, что с истерикой и слезами уйдет поселившаяся в груди боль. На место грозному зверю пришла она – холодная и склизкая, но так уютно устроившаяся на пригретом месте, что изгнать ее не поднималась рука. И потому Гермиона лелеяла каждое горькое воспоминание, на корню обрубая любое счастливое. Находила минусы среди плюсов и обнимала себя руками, не желая рассыпаться раньше времени.
К моменту, когда на место взрыва подоспела группа авроров во главе с Гарри, Гермиона уже скрючилась на полу, упираясь лбом в треснувшую рамку с фотографией. Обычный снимок, не волшебный. На нем снятые фигуры замерли, смотря в объектив. Но для Гермионы это фото было самым живым. Ей всего несколько месяцев, но она уже самостоятельно сидит, хотя отец, все еще боясь, что она упадет, поддерживает ее со спины. Рядом – лицо мамы, чуть размытое, потому что она поставила таймер фотоаппарата всего на несколько секунд и не успела добежать и удачно устроиться «в кадре». Но это было не так важно, потому что она смеялась на этом снимке – так же, как и сама Гермиона, так же, как и ее папа. Конечно, она не помнила этот день, но она слышала о нем от родителей. И когда нашла в старом альбоме снимок, то сделала копию для себя. Чтобы помнить: это ее семья, и сколь бы сильным ни был разлад между ними, она все еще остается их дочерью. Но эта мантра быстро забылась, когда Гермиона увидела прошедшую ровно по лицу матери трещину. Сломанное стекло исказило реальность, и теперь лицо Джин Грейнджер выражало не радость, а служило примером того, что называют оскалом. Гермиона попыталась вытащить заднюю стенку рамки, чтобы достать фотографию и убедиться, что это неправда, но лишь порезала правую руку о торчащие наружу «швы» в стекле.
Она, конечно, не рассказала Гарри о причинах случившегося и почему так вцепилось в этот снимок. Но ему не нужны были ее слова: хоть в последние месяцы Гермиона и отдалилась ото всех, друзьями они быть не перестали, и потому он понимал ее лучше, чем она думала. Пока вызванный колдомедик Отдела приводила в порядок ее израненную руку, из которой натекла уже целая лужа крови, Гарри забрал рамку из рук впавшей в апатию Гермионы и вернул уже пустой. Снимок с улыбающейся семьей аккуратно приземлился на стол прямо перед невидящим взглядом его подруги.
Позже, когда она расписалась в бумагах, написала объяснительную и получала странное, почти отеческое, благословление Боуда на недельный отдых, Гарри проводил ее до каминного зала. Он предложил доставить ее до квартиры, но Гермиона настояла, что хочет остаться одна. Она знала, что уже на следующий день, выждав минимум положенного времени, в ее дверь постучится его супруга, но до этого еще нужно было дожить, а пока она могла позволить себе побыть эгоисткой. Гарри поймет ее, обязательно поймет. Может, не сейчас, но рано или поздно это случится. И он не станет винить ее. Никогда не винил. Именно Гарри был первым, кто искренне поздравил ее, узнав об ее отношениях с Драко.
Уже стоя напротив камина, Гермиона замерла в нерешительности. А потом резко развернулась и обняла друга, изо всех сил сдерживая желание расплакаться на его плече. Гарри сцепил руки у нее за спиной, крепко прижимая к себе, но не произнося ни слова. Они стояли так очень долго, пока Гермиона не успокоилась окончательно. Тяжело выдохнув, она отстранилась и заглянула в изумрудные глаза, полные неиссякаемой надежды. Несмотря на все выпавшее на его долю, Гарри всегда оставался оптимистом. И то, через что проходила она, ни в какое сравнение не шло с тем, что пережил ее друг. Эта мысль заставила ее устыдиться собственной слабости, поэтому она робко ему улыбнулась, поблагодарила, прошептав слабое «спасибо», и скрылась в зеленых всполохах пламени, спеша поскорее сбежать. Не от Гарри. От самой себя.
Лишь оказавшись в месте аппарации, Гермиона немного расслабилась. Чувство стыда настойчивым червячком точило в мозгу проход, не унимаясь ни на секунду. Решив, что лучше сна без сновидений лекарства нет, она быстро запахнула плащ и аппарировала в ближайший к дому сквер. На улице, словно вторя ее настроению, лило как из ведра. В небе бушевала настоящая стихия, озаряя нависшую над городом темноту редкими вспышками молний. То тут, то там от грохота раскатов начинали завывать машины, оставленные хозяевами на стоянках. Но Гермиону не заботил ни дождь, заливающийся за шиворот, ни обгоняющие ее магглы, спешащие поскорее в укрытие. Она неспешно брела по узкой мощеной улочке, остывая под холодными потоками. Мысли плавно перетекли от стыда к анализу, от анализа к безразличию. Словно не осталось ничего, что еще интересовало бы ее в этой жизни. Словно все исчезло вместе с дождем в сливных каналах, утекло с водой глубоко под землю. Может, оно и к лучшему, подумала тогда Гермиона.
И сейчас, разглядывая, как тусклый свет, пробивающийся из окна, играет отблесками на золотом ободке, который она оставила лежать на трюмо, Гермиона задавалась вопросом: «Может, это и вправду к лучшему?».
Автор: Shantanel Буду рада вашим отзывам здесь и на ФОРУМЕ. 






































































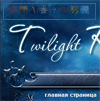 ...что на сайте есть восемь тем оформления на любой вкус?
...что на сайте есть восемь тем оформления на любой вкус? ...что в
...что в