Kapitel 20. Five Elephant
Teil 2. Neues aus Entenhausen
«Five Elephant Roastery» — кофейня, ремесленная пекарня и небольшая группа берлинских кафе, расположенных в самом сердце столицы Германии. Neues aus Entenhausen — "Новости из Дакбурга", американский мультсериал студии Disney, транслируемый с 1987 года. Фабиан плачет во сне. Он никогда за собой такого не замечал, поэтому даже не сразу верит. Но наволочка подушки недвусмысленно влажная, на щеках саднит от соленых слез, в груди чувствуется знакомая тяжесть, а в горле – ком.
Фабиан плачет во сне. Впервые в жизни. Это пугает.
Он зарывается лицом в подушку, в который раз старается убежать от самого себя – жмурится, закрывает глаза, сжимает зубы. И потрясенно вздрагивает, когда кто-то мягко гладит его спину.
- Тише, Тревор, тише.
Фабиан не понимает, проснулся он уже или нет. Открывает глаза скорее по инерции, куда быстрее, чем успевает об этом подумать. Хмуро оглядывается за спину. И папа касается его нежнее.
- Все хорошо, Sohn.
В его комнате ничего не изменилось с ночи, если не считать присутствия отца. На том же месте, где вчера была Белла, теперь – он. Взгляд у папы спокойный, приметливый, движения – мерные, утешающие. И ровное, прекрасно контролируемое дыхание. Это то, чему Фаб всегда завидовал – умению сделать вид, будто ничего не происходит.
- Сколько времени?..
- Начало третьего.
- Дня?..
- Дня, да, Тревви.
Фабиан хмурится. Смотрит на папу выжидательно, но тот будто этого не замечает. Не отводит взгляд, нет, но не задает вопросов, не выражает свое недовольство. И также утешающе, ласково его касается. Правда, едва ощутимо теперь, вдоль ворота кофты...но это все равно отвлекает.
- Белла и Парки?..
- Они в городе, на ярмарке. Я подумал, Паркеру пойдет на пользу.
- Хорошо.
В спальне тихо, наполовину задернуты шторы и царит мягкий полумрак. Из-за занавески просматриваются белые холмы сугробов. Поверх одеяла Фаба наброшен его плед. И подушка, черт ее дери, совсем мокрая.
- Я не знаю, что мне говорить, - честно признается Фабиан, мельком глянув на постель, сумрак комнаты и позу отца. Отодвигается от него, садится на покрывалах, стянув вниз задравшиеся рукава кофты. Вытирает ими мокрое лицо.
- Расскажи мне, как ты себя чувствуешь, Тревор.
- Живым.
Он нервно передергивает плечами, на мгновенье зажмурившись. Вдыхает воздух через нос и уворачивается от ладони папы, когда тот стирает остатки слез с его щек. Не настаивает, убирает руку.
- Я рад это слышать.
Это невозможно уже, не хватает терпения. Может быть он все же не признался, придумал себе это все? Фабиан запускает правую руку в свои волосы, резко их сжав. Если это сновидение, пусть кончится. Если реальность, пусть прояснится. Тяжесть в голове от долгого сна, затекшие мышцы и бесконечно саднящие от слез слизистые – вот его удел. Першит в горле.
- Я сказал тебе о К-кэтрин?
Эдвард мрачнеет, но не критично. Только движения его медленнее.
- Да.
- И что?
- Что, Тревор?
- Ты издеваешься надо мной!
Он отодвигается вглубь постели, приникает спиной к ее изголовью. Притягивает к себе край одеяла, отбрасывает к чертям влажную подушку. Сжимает ткань, прижав к груди. Фабиану жарко, но возвращается знакомая нервная дрожь, этот озноб всегда предваряет истерику... а на очередную истерику, кажется, у него просто не хватит сил.
- Если ты хочешь поговорить об этом, сейчас – последний шанс, vati.
- Тревор.
- Неужели ни одного вопроса?.. Ты меня вообще слушал?!
- Конечно.
- Тогда я сомневаюсь, что ты понял. Или эту броню ничем не взять? Теперь ты решил быть сдержанным и понимающим, да?! Так уже поздно... уже очень поздно.
Фабиан снова чувствует слезы на лице и люто их ненавидит. Мутнеет взгляд, более плавными становятся очертания комнаты, папиного лица. Его синие глаза уже не такие безмятежные, там появляется какой-то стальной блеск.
Он усаживается на постели рядом с ним, довольно близко, у коленей. Фабиан выставляет их вперед как условную, но преграду, и отец не стремится ее нарушить. Бархатно гладит его ноги вдоль покрывала, потирает ткань.
- Мне очень жаль, Тревор, прости меня. Я слушаю все, чем еще ты готов поделиться. Все, что угодно.
- Думаешь, хуже быть уже не может?
- Думаю, что нам нужно поговорить, - он осторожно кивает на его руку, который Фабиан так неистово сжимает покрывало. Взгляд как никогда приметливый. – Белла сказала, ты себя обжег?
- Здорово, что не ее, правда?
- Зачем, Фаб? Было больно?
- Я надеялся, что будет больнее, - Фабиан качает головой, облизнув губы. На них свежие, незажившие ранки, а сама кожа – сухая. Видимо, во сне он не только плакал. Видимо, папа здесь куда дольше, чем готов признать – вполне вероятно, все прошедшее с их утреннего разговора время.
- Ты давно это делаешь?
- Нет. Я обычно не... Сибель... – рыдания пробиваются, когда вспоминает ее, ничего не может с собой поделать. - Сиб бы заметила...
Вздрагивает его броня, если это она. Эмоциональная защита? Сдерживающий фактор? Черт подери, какая разница? Фабиану вряд ли понадобятся уже умные слова. Ни сил, ни стремлений, ни веры он больше не чувствует. Жалкое и пустое существование. Залитое доверху болью. И нет никакого будущего, все, закончилось оно. Потому что такое не прощают – ни папа, ни Сибель. Сколько бы не храбрились и не пытались разговаривать... им просто нужно подробности. Чтобы увериться, убедиться. В последний раз.
- Я могу посмотреть, Тревор?
Его аккуратная просьба Фабиана смешит. Сквозь слезы, но все же. Он протягивает вперед сразу обе свои руки и Эдвард бережно, мягко их пожимает. Долго смотрит на сигаретный ожог, поджав губы. Ему больно. Ну вот.
- Он тебя тревожит?
- Нет. Я не замечаю.
Папа неглубоко вздыхает, глянув на Фабиана из-под ресниц, очень трепетно. Ласково целует его руки, гладит их, обдав горячим дыханием. Слез у Фабиана становится больше.
- Как это произошло, расскажи мне. Кэтрин заставила тебя?
- Меня никто не заставлял.
Он не верит. Фабиану хочется усмехнуться, но выходит лишь оскал. Ну конечно же не верит. Люди в принципе склонны принимать за правду только собственную картину мира. Vati не станет исключением.
- Когда у меня была вечерника той весной... мы с мамой договорились, что на выходные дом в моем распоряжении.
- Двенадцатого?..
- Сразу после моего дня рождения, в субботу, тринадцатого, - уточняет Фабиан, опустив глаза. – Она пришла туда.
- Как пришла? Зачем?
Его недоумение больно Тревора режет. Он сам упросил Террен. Она хотела оставить смотрящим кого-то из Калленов, больше всего склоняясь к кандидатуре Розали. Но Роз – строгая, она испортила бы все веселье. Другое дело – Кэт. Мама знает ее с языковой школы, она сестра Роз, она формально вхожа в семью... и ей точно нет никакого дела до веселья Фабиана. Она свою дочь, что чуть старше него, провела в клуб! Вот кто точно не помешал бы... не помешал.
- Я уговорил маму выбрать ее взрослым наблюдателем... ты же знаешь, она бы не стала нам ставить палки в колеса.
- И мама согласилась?.. На Кэтрин?!
- Я умею убеждать.
Папа крепче сжимает его ладони в своих. Острее, темнее становится его взгляд, ходят под кожей желваки скул. Уже лучше. А то и вовсе бы подумал, что не живой, что простил бы... ну конечно. Эмоции – наше все. Благодаря эмоциям мы живы, мстительны и жестоки. Лучше жестокость, чем боль. Лучше бешенство, чем ужас.
- Что она с тобой сделала, Фабиан?
- Подошла пообщаться в конце вечера. Я ее мало знал, мы ведь никогда вместе не собирались... и момент был подходящий.
Фабиану не тяжело говорить, эти слова больше не кажутся неподъемными или жестокими, они – всего-то слова. Как в туманной дымке, как в полудреме – просто правда и все. Тем более, папа слушает. А Белла обещала ему, что как скажет, так сразу станет легче. Он еще надеется, что станет, даже если это глупо.
- Какой момент?.. – испытующе зовет vati.
Тревор сдавленно улыбается краешком губ, вздрогнув. Смаргивает новые слезы.
- Мы с Кристен почти... у лестницы. Это было очевидно, я ждал и думал, что... что это мой подарок. Но она мне отказала.
Фабиан слишком хорошо помнит этот момент. Он запал в душу, потому что стал первым серьезным поражением. В ночь своего пятнадцатилетия он был уверен, что лишится девственности. Все парни в его классе уже были с девушками, красочно описывая и потрясая... и Тревор, исходя от нетерпения, ускорял события с Кристен. Забавная, милая Кристен, капитан школьной команды по чирлидингу, голубоглазая блондинка, ревностная католичка по воспитанию и наследница косметической компании своих родителей... она дала ему в пах коленом, когда попытался лишь сдвинуть трусики ниже... и сбежала слишком быстро, чтобы задать хоть один вопрос. Потом выяснилось, что девственности она мечтала лишиться с Кевином Крайсом, старшеклассником, который, по рассказам, обладал самым большим в школе детородным органом.
Ирония в том, что ровно в момент удара Фабиан впервые увидел Сибель. Она скучала на диванчике гостиной, кто-то из девчонок привел ее «хвостом» для своего друга. Секс в планы Сибель не входил и она, отослав парня, просто наблюдала за происходящим. У нее так округлились глаза тогда, когда Кристен его ударила... и Фабиан был готов сгореть со стыда, что она это видела. С трудом сдержался, чтобы не выгнать ее к чертям, раз не приглашал, высмеять, обругать как следует... но не пошел у себя на поводу. Скрылся на втором этаже, со всей дури хлопнув рукой по перилам лестницы. А там была Кэтрин.
- Она подошла ко мне на балконе, - продолжает рассказ он, шмыгнув носом. Не хочет вспоминать подробности, но с горечью признает, что они навечно в памяти, как запаяны в ней. – Спросила, в чем дело... и что это за девочка, и почему я зол...
- Она ведь узнала тебя, правда?
Фабиан смело папе кивает. Вздыхает, стерев слезы об одеяло с правой щеки. Изредка пробиваются наружу всхлипы.
- Она сказала мне, что я достоин большего. Что ни одна девочка, которая меня не захочет... что они все дуры. И максимум, на что способны – закричать. У них нет опыта, они не сделают мне хорошо... и уж точно не оценят меня как следует.
Эдвард шумно выдыхает, посмотрев на Фабиана с состраданием. Это не тот взгляд, которого он ожидал, но Фабиан облегченно подмечает, что злость там тоже есть. Недовольство. Презрение? Хорошая эмоция, вот она – правильная.
- Я теперь не такой придурок, пап, как был тогда... но в тот день, в той темной комнате и с алкоголем... я думаю, я бы все равно поступил также. У меня никого не было тогда и... я не думал. Это как... помутнение, сон? Не знаю. До сих пор не могу понять «почему?», не спрашивай меня.
- Что она тебе предложила?
- Это была наша гостевая и там был диван... когда мы сели, она гладила... она мне дрочила.
Фабиан опасается смотреть на отца, почему-то это кажется чересчур изматывающим, тяжелым. Но потом он сдается. В папиных глазах жестокая, черствая ярость. И много металла, который ни чем не проймешь. Он неслышно, часто дышит.
- И потом?
- Потом сказала, что получу больше, если только захочу. Сразу, как закончится вечеринка.
- Она осталась с тобой на всю ночь?
- Да. Мы выпроводили гостей в полночь, она мне помогла. И затем уже... затем – да.
- Ты говорил, был еще минет?
- Верно. Прямо в прихожей, а потом – в гостевой.
Фабиан отпускает его руки, отстраняется от них. Опускается у изголовья ниже, увеличивает между ними расстояние. Судорожно вытирает слезы, что текут теперь полноводными реками. Больше нет ни всхлипов, ни дрожи голоса. Но очень тяжело в груди – как камень. Болит голова.
- Я три раза в ней был. Ты это хочешь знать? Сколько раз? И кончал тоже три. Она единственный, мне кажется... не знаю. Я не знаю!
Он хочет что-то сказать, наверное, но Фабиан не дает. Касается правой щеки рукой, закрывает ее, пылающую. И шумно сглатывает, продолжая:
- Я не придумал про... про имя. Она правда... тебя... она мне с утра сама сказала... почему – я...
Папа тоже пересаживается к изголовью. Фабиан чувствует его близость, когда оказывается рядом. И Фабиан, крепко сжав зубы, приникает виском к его плечу. Не отказывается от этих объятий, хоть и должен бы был. Они все равно ничего не будут значить позже... а пока... пока он не один.
- Тревор. Я так виноват перед тобой... я должен был это предотвратить.
Эдвард ощутимо, уже не так нежно гладит его волосы, шею, плечи. В том числе – у запретных зон. От этого сильнее текут слезы, зреют в глубине горла рыдания. И возвращается ненавистный Фабиану озноб.
- Т-ты не смог бы... т-тебя не было... тебя никогда здесь нет.
Папа обнимает его крепче, горячо целует волосы, влажный лоб. Боль разливается внутри, пульсируя под кожей. Фабиану вдруг хочется закричать, но голос наоборот садится.
- Ты не должен был знать. Если бы она не была такой вездесущей... ты бы не узнал. Никогда не узнал бы.
- Тревор, любимый, я рад, что ты сказал мне. О таком нельзя не рассказывать, это ужасающий проступок.
- Вот поэтому...
- Нет! Нет, сынок, ты что, - Фабиану кажется, отец тоже заплачет вместе с ним. У него очень заметно срывается голос и уже не просто крепкие, уже удушающие выходят объятья. – Все на свете, все что угодно ты можешь мне сказать. Что бы оно не было и как бы плохо не звучало.
- Правда н-никому н-не нужна, vati. Стало легче? Что теперь-то?!
- Мы это переживем, Тревви. Она поплатится за все и ты сможешь идти дальше. Я тебе клянусь.
- Громко, папа... громко и бессмысленно, - морщится Фабиан, подняв голову. Эдвард смотрит на него с тоской, с беспокойством, с состраданием. И каждая из этих эмоций режет Фабиану душу. Он их просто не заслуживает. И vati, и Изза упускают главное – он сам дал согласие. Никто, кроме него, не виноват. Кристен же отказала! И что, он изнасиловал ее? А Кэтрин его принуждала? Заставляла? Хоть что-то... хоть что-то?..
- Я сказал ей «да». Это был я. Сам.
- Это ничего не значит.
- Тебе просто удобнее так думать. Я, когда проснулся тем утром, а она была рядом и... я тоже был готов все, что угодно принять. Только бы это не было правдой.
- Утром она тоже?..
- Нет, - Фабиан морщится, запрокинув голову к спинке кровати. – Я вытолкал ее за дверь и велел никогда больше не являться. Я хотел умереть в тот день. В душе, смывая с себя ее запах и всю ее... я думал о суициде. Честно.
- Но это же не конец!
- Ты сам-то в это веришь?..
Эдвард выдыхает, мягко коснувшись его лба. Целует кожу у линии волос и у него немного дрожат губы. Голос эмоциональный, но больше не срывается.
- Конечно. Я люблю тебя. Я верю тебе и всегда буду тебя любить. Это не конец.
Не верь. Фабиан заклинает, умоляет себя. Не верь. Он это на эмоциях говорит, он еще не подумал. Любовь тоже кончается – у всего есть границы. Он так хотел сделать отцу больно, когда тот предложил оставить Сибель... так же больно, так же глубоко. А на деле Фабиан изначально в проигрыше. Предсмертная агония... люди всегда выдают в ее период самое сокровенное. Пусть так. Но агония всегда кончается смертью – и глупо с этим спорить.
- Знаешь, в дни Жатвы она тоже говорила про любовь...
Папа останавливает его, аккуратно коснувшись скулы. И Фабиан вздрагивает, улучив, что проговорился. Больно кусает себя за щеку изнутри, почувствовав во рту привкус крови.
- Что за «Жатва»?
Он требовательно спрашивает, хоть и негромко. Не дает отвернуться, но просит, а не приказывает на себя посмотреть. И Фабиан думает, что хуже и вправду уже некуда. Да, это унизительно и это очередной повод для наказания... но ведь главное-то уже ясно. А эти подробности... отвратительные, но не более того.
- Раз в месяц я платил ей за молчание, - ровно говорит он.
Эдвард недоуменно хмурится, убрав свежие слезы у его скулы.
- О чем ты? За какое молчание?
- Чтобы не сказала тебе, что мы... что мы спали.
- Тревор... – округляются его глаза, не понимает – но ты ведь сам мог?..
- Я бы никогда этого не сделал, я уже говорил. Только если в предсмертной записке.
Папа потерянно оглядывает его комнату, остановившись на окне. Шторы чуть подрагивают от ветерка снаружи. Вдоль оконной рамы высятся морозные узоры.
- Но Фабиан, разве же я не помог бы тебе? Все эти месяцы?..
- Прости.
Эдвард сглатывает, пьяно взглянув на его пострадавшую руку. Фабиан поспешно прячет ее под одеяло.
- Сколько ты платил ей?
- Пятьсот пятьдесят.
- Но откуда у тебя?..
- Это твои, - Фабиан сдавленно, мрачно усмехается, резко стерев с лица очередную слезную дорожку. Внутри все кромсает, перемалывая в неразличимое месиво, острая боль. – Подарки Сиб, помнишь? Ты всегда говорил, какие они дорогие...
Тревор резко выдыхает, застонав. Всхлипывает, зажав себе рот здоровой рукой. Содрогается.
- Я слишком мало делал для Сибель, папа. Меня выворачивает от мысли, что она узнала бы, что я прикрывался ей... она этого не заслуживает. Она самое честное и доброе, что было в моей жизни. И ты... я понимаю, что ты тоже никогда меня не простишь. Ты сам ей платил за... молчание... за... тишину!
Фабиан начинает рыдать в голос. Снова задыхается, снова бьется от дрожи, снова не видит перед собой ничего, кроме слез. За эти дни уже можно было бы привыкнуть, но нет. Каждый раз как первый. И почему так больно, когда заканчивается жизнь? В ней ведь тоже было что-то хорошее. В ней было тепло и любовь, в ней была нежность. В ней было доверие – от Сиб, от папы, от Иззы... она ведь тоже в курсе. Все это ложь – ее слова. Будто станет легче, перестанет душить, забудется... смешно! Забудется! Это?! Да никогда! Как же печально, как же ужасно. Никогда.
- Нет, Тревор. Не так.
Ну вот.
Это он. Точно он, тот самый момент. Когда человек понимает, на что готов пойти, лишь бы закончилось. Лишь бы больше никогда не тревожило... и не видеть глаз родных, не слышать их, не оказаться отвергнутым. Лишь бы только остановить все в одной точке. Это тот самый момент, в который Фабиан выпил бы фатальную дозу снотворного. Или порезал вены. Или прыгнул бы со скалы в океан. Врезался в стену. Затянул веревку. Что угодно.
- Тревор, - он тонет в этом безумии, но слышит папин голос. Потому что он пронизан такой глубокой, исчерпывающей эмоцией, которую Фабу прежде редко доводилось слышать. – Тревор, я люблю тебя. Я с тобой. Я всегда, что бы не случилось, буду с тобой. Ich liebe dich. Ш-ш-ш. Sehr stark.
Он много раз это повторяет, как заведенный. Ничего больше не говорит, только эти фразы. Касается его, гладит, прижимает к себе – и на сантиметр не отпускает. Фабиан слышит его дыхание, его голос, его честность. Чувствует. И то, как целует его, и то уговаривает, ласкает. Не дает начать задыхаться, не дает утонуть в этой черной дыре боли, которой просто нет границ. Удерживает на поверхности, унимает. Долго, очень долго. Бесконечно.
Фабиан теряет себя в этом потоке слов и накрывающих волнах боли. Она выжигает пульсацию в голове, унимает звон в ушах, сметает ком в горле. Дрожь остается, но куда слабее, теперь это больше похоже на ту, что от холода. Не стучит в шее сердце, в груди оно, где и должно быть. Очень мерно бьется. Фабиану кажется, он умирает. Безболезненно.
- Папа.
Эдвард встревоженно встречает такой тон его голоса. Фабиан и сам бы не узнал. Тихий, ровный и совершенно, абсолютно пустой. Неживой.
- Да, сынок.
- Прости меня.
- Мне не за что тебя прощать, Тревор. Я только могу молить о твоем прощении.
- Скажи, что прощаешь. Ну пожалуйста...
Это так по-детски, так отчаянно звучит. Папа морщится, наклонившись к его лицу. Бесконечные, неостановимые эти слезы вытирает, целует его. Фабиан супится.
- Прощаю, Тревви, - гладит его волосы и виски, как делал лишь в раннем детстве, - мне не за что, но я прощаю. И я горжусь тем, что ты такой сильный, решительный и честный. Что ты пережил этот ужас и позволил мне помочь. Я обещаю, Фабиан, мы все исправим.
Было бы что исправлять, думает Фабиан. Но вслух говорит другое:
- Спасибо.
И сдавленно, смято папе улыбается. Все равно уже все. Даже если он выживет, даже если разрешит себе забыть... лучшего все равно не станет. Белла была права, это закончится с его признанием. Потому что очевидно теперь, как безнадежно все это повернулось. И Сибель... ну конечно. Жаль, что больше он никогда ее не увидит.
Какое-то время в спальне тихо. Он все так же лежит у отца на плече и Эдвард, никуда не торопя их, о чем-то думая, медленно его гладит. Это дорогого стоит, его нежность. И временное, но принятие. Фабиану чуть легче.
- В этом месяце Жатвы еще не было. Она двадцать девятого.
Эдвард отпускает его, чересчур ровно удерживая спину.
- Вы договорились о встрече?
- Да. Склад игрушек на въезде в город, центральный вход. 18.20, - выдерживает коротку паузу, взглянув на папу робко, но понятливо, говорит Фабиан. – Вызовешь полицию?
- Я встречусь с ней вместо тебя, Тревор. И она сама туда пойдет.
- Самонадеянно.
Он невесело усмехается, тревожно посмотрев на его лицо. Приглаживает волосы.
- Sohn, нам с тобой нужно съездить в больницу.
- Слишком давно все было, vati. Никаких доказательств.
- Меня не волнуют доказательства, - качает головой он, очень серьезно на Фабиана взглянув. – Меня волнуешь только ты. Нужно сдать анализы.
- Ты ведь сам с ней... думаешь?
- Я не знаю, кто был у нее между... нами, - с трудом, но произносит это слово, не чурается его. – Так надежнее.
- Я сдавал их перед тем, как мы с Сибель... я помню, что ты мне рассказывал. Я чистый.
- Я не сомневался в тебе, любимый. Но анализы нужно повторить. И проверить твое общее состояние – тоже.
- Белла сказала, да? – фыркает, прищурившись, Фабиан. - Про панические атаки?
- Она переживает о тебе, как и мы все. Прошу, сынок.
- Как хочешь, - пожимает плечами Фабиан. Ему и правда уже все равно.
Он с трудом запоминает все последующие события – но не потому, что бредит или находится в невменяемом состоянии. Он их просто не замечает, не обращает внимания. И в голове нет больше мыслей, удушающая пустота. Какое-то навязанное, бессильное, туманное спокойствие.
В нем и рождается решение – очевидное и простое. Сибель будет жить. И она будет свободна. Это того стоит.
Папа регистрирует его на ресепшене клиники, а Тревор, отлучившись в уборную, набирает ей одно-единственное сообщение. Ненавидит себя за слабость, несправедливость по отношению к ней, весь этот бред прощания. Но знает, что телефонный разговор не вынесет. Да и приплести это могут к делу против нее – в конце концов, никто не знает, о чем они говорили.
Доктор Готтем, что ведет Фабиана с младенчества, на осмотре явных патологий не находит – с ним все относительно в порядке. Ни внутренние органы, ни рефлексы, ни реакция – ничего заметно не страдает. Результаты анализов, как общих, так и на все половые инфекции, приходят через два с половиной часа. Фабиан ничему не противится, все позволяет – от мазка до забора крови. Его нервирует лишь роба в горошек и синяя шторка у кушетки – но это переживаемо.
Доктор Готтем наблюдает за Фабианом все время, пока они в клинике. Анализы чистые, он здоров. Но доктор, отведя папу в сторону, негромко говорит что-то о нервном истощении и депрессивных эпизодах. Видимо, Фабиану хотят навязать еще и психотерапевта. Правда, не сегодня.
Они возвращаются домой уже в темноте. Фабиан даже не ощущает кресла подменного «Порше», взявшегося из неоткуда у их дома. Бесконечные снежные долины разлились вдоль фонарей, трассы и лесного массива. Тишина бесконечна, а темнота – безудержна. Автоматически открываются ворота гаража. Беллы с Гийомом еще нет.
Фабиан отказывается от еды, говорит, что есть пока не может. И от чая. Пьет только один полный стакан воды – и на этом все. Поднимается к себе, забираясь в постель. Эдвард подает ему одеяло. Целует на ночь, как в детстве, и Фабиан правда чувствует усталость, не юлит, когда говорит, что хочет спать. До ужаса хочет и почему-то знает, впервые за долгое время, что точно уснет.
Вздыхает.
- Папа, я согласен.
Эдвард удивленно поглядывает на него, все еще сидя на покрывале. Медленно гладит по руке.
- На что, Sohn?
У Тревора даже не вздрагивает голос на родном имени и он потом очень этим гордится:
- То, что ты предложил с Сибель. Я больше никогда с ней не увижусь. Защити ее.
- Фабиан...
- Я не откажусь от своих слов, не переживай. У тебя есть мое обещание. Только чтобы она не отвечала за меня, я прошу.
- Мы можем обсудить это еще раз, завтра. Пока время терпит, Тревор, да и...
- Нет. Я уже попрощался, нечего обсуждать, - он еще раз вздыхает, качнув головой. Папино лицо искажается, когда он на него смотрит, но это теперь мало Фабиана волнует. – Спасибо тебе, vati. Доброй ночи.
* * *
Гийом отстегивает ремень безопасности сразу, как останавливаю автомобиль. Не глядя на снег, темноту и узкую подъездную дорожку, паркуюсь у гаража с потрясающей точностью – камеры и парктроники делают свое дело. И, хоть «Порше» за последние месяцы уже стал данность моей жизни, все равно никак не привыкну. Я правду сказала тогда Эдварду – эти машины умнее меня.
Входная дверь в дом открыта. Эдвард, опираясь руками о заборчик террасы, ждет нас с Гийомом на крыльце. Пальто на нем нет, хотя на улице мороз, но вот снегопад уже прекратился. Я переживала, как доберемся до дома, если заметет основные дороги.
Паркер, уже распахнувший входную дверь, выкрикивает мне:
- Не забудь трайфлы, Белла, ладно?
- Конечно, Парки.
Я беру с переднего сиденья крафтовый пакет с набором из пяти пирожных в порционных стаканчиках, который купили пару часов назад. Есть там еще большая розовая банка «Баскин Робинс» и шоколадные кукис. Набор на конец света, если он еще не наступил.
- Спасибо. Папа!
Гийом уже у крыльца. Эдвард ловит его, как и тысячу раз прежде, на расстоянии в полшага, крепко прижимая к себе. Мальчик обвивается вокруг него, приникает к плечу. Щурится.
- Ты такой горячий.
- Я же не мерзну, забыл? – насилу шутит Эдвард. Целует светлые волосы сына, взъерошив их напоследок. Ставит его на ноги.
- Мы привезли сладкое.
- Еще бы, - Falke вздыхает, приветственно мне кивнув. – Заходите. Как провели время?
- Кайли дважды обогнала меня в лабиринте. Зато на батутах выше прыгаю я.
- Повезло же тебе!
Кайли – дочка Джоуи, та самая девочка, которая Гийомке нравится и с которой он играл в спектакле. Эдвард организовал им развлечение на пустом месте, просто позвонив Джоуи ближе к полудню и предложил детям поиграть вместе. Сразу после обещанных Паркеру панкейков, которые он все же приготовил сам.
Гийом слишком долго ждал возможности побыть с отцом и каникулы, призванные подарить ему эту возможность, ни с кем вне семьи делить не хотел. Сперва. Но Эдвард отвел его в сторону, поговорив, как со взрослым и рассказав что-то о плохом самочувствии Фабиана и кое-каких проблемах на работе. Я не слышала весь разговор, но Гийом к папе прислушался. К тому же, его потребность в общении с другими детьми и яркая коммуникабельность взяли свое. Мне кажется, мы и вправду неплохо провели время. Сперва с Кайли в детском центре, а затем с Гийомом наедине на рождественской ярмарке. Все сладкие дары – то, что от них осталось – как раз оттуда.
- Фабиану лучше, папа? – тихонько спрашивает Паркер, когда снимает куртку в прихожей. Тревожно поглядывает на темную лестницу второго этажа. Оттуда не раздается ни звука.
- Да, немного. Он сейчас отдыхает, Парки.
- А ты отдыхал?
Эдвард улыбается уголком губ, погладив сына по волосам. Паркер смотрит на него искренним, теплым взглядом – Эдвард это пронимает. В уголках его глаз крохотные морщинки.
- Посмотрим что-нибудь в зале? Все вместе. Раз уж и мороженое есть...
Его предложение Паркеру по вкусу. Он довольно улыбается, обняв папу за талию – крепко, но быстро.
- Я помою руки и включим
"Neues aus Entenhausen".
- Natürlich, Spatzen.
Эдвард забирает мое пальто, пристроив его на вешалке шкафа. Движения спокойные, но будто машинальные. Он выглядит несколько задумчиво, но не более того.
- Расскажешь мне, как все прошло? – прошу его, невесомо коснувшись спины. Вопреки идеальной осанке, которая всегда сопровождает его тревогу, этой ночью Эдвард заметно горбится.
- Это все еще долго не пройдет, Изз.
- Я понимаю, - глажу его плечи, помассировав их у шеи. Эдвард хмурится. – Но хотя бы что-то? Как Тревор?
- Физически он здоров, анализы в норме. А морально... доктор считает, это что-то сродни оглушению. Эмоциональный коллапс.
Эдвард сдерживает свой тон, хотя мне кажется, в нем куда больше усталости и бессилия, чем гнева. В его чертах заметное беспокойство, но есть там и растерянность. Он говорил мне, что Тревора нужно отвезти в больницу – для этого даже пригнали подменное авто, что и стоит сейчас в гараже. И, судя по всему, с Фабианом им удалось пообщаться. Успешно?..
- Он справится, - негромко, но откровенно обещаю я. Поднимаю ладонь чуть выше плеча и шеи, касаюсь его челюсти. Сокол неглубоко вздыхает. Слишком много он последнее время вздыхает.
- Еще бы. Посмотришь мультики с нами?
- С удовольствием.
Я знаю, что ему хочется хоть немного, но отвлечься. Да и Паркер очень ценит возможность побыть с папой, успокаивает его самим фактом своего существования, своей детской и бесхитростной любовью – до луны и обратно. Сразу, как начинается узнаваемая видеозаставка, приникает к его плечу.
- Schönheit.
Эдвард поднимает руку, приглашая меня занять свободное место рядом с собой. Я не отказываюсь да и Паркер, кажется, не против.
Каллен сидит между нами с сыном, поэтому и мороженое выпадает держать ему. Правда, съедает он хорошо если пару ложек, основную часть ведерка приканчивает Гийом. Ближе к концу третьего эпизода «Утиных историй», закутавшись в плед, кладет голову папе на колени. Сокол гладит и его спинку, и плечики, иногда путаясь пальцами в волосах.
- Папа?..
- М-м-м?
- Тревви же поправится, правда?
Гийом спрашивает это с опаской, очень взволнованно. Поворачивается на спину, заглянув папе в глаза и едва заметно супится. Синий взгляд – точь-в-точь Эдварда – очень серьезный.
- Конечно, любимый. Может быть не так быстро, как хотелось бы, но поправится.
Эдвард трогает искренняя забота Парки о брате. Не глядя на то, что Гийом куда младше своих лет, а Тревор, кажется, старше... у них все равно своя, особая связь. Такая бывает лишь у братьев и сестер, непонятная другим, пронзительная и очень, очень прочная. Паркер любит Тревора всем сердцем и юноша отвечает ему взаимностью. Парки тоже сможет брату помочь.
- Ему, наверное, грустно одному? Больно?
- Он спит, Spatzen. Во сне нам не больно. А завтра с утра первым делом его проверим, что скажешь?
- Обязательно. Сразу, как проснусь.
Эдвард сам укладывает Гийома в постель этим вечером. Я остаюсь внизу и разбираюсь с ложками и мороженым, выключив телевизор. Закрываю дверцы шкафа, убираю плед на подголовник дивана и гашу внизу свет.
Из комнаты Гийома доносится какое-то движение и заметна полоска света на полу. А у Тревора тихо и темно, дверь совсем немного приоткрыта и я вижу, что мальчик и вправду спит. Его история, его поступок, за который так стремится наказать себя и извести, вызывают во мне жгучую боль. Я не думала, что могу нечто подобное чувствовать к чужому ребенку. Все дело в том, что я его понимаю, как никто?.. Или в Эдварде? Я люблю Falke совершенно особой, глубокой любовью и Тревор, как его продолжение, как его сын отражает эту любовь.
И хоть Фабиан постоянно апеллирует сходством с отцом, во всем хорошем, что касается него самого, ссылаясь на папу... но ведь это не так! Он уникальный сам по себе, он замечательный. Я надеюсь, однажды он в это поверит. Ему просто нужно дать время.
Я смываю свою тревогу под горячими, упругими струями душа. Они здесь иные, чем в Берлине, больше похоже на массажную насадку, вода тебя прямо-таки бьет. Но и хорошо отвлекает. Я переживала за Фабиана весь день, пока мы были с Гийомкой вне дома. Отвлекала себя, развлекала, уговаривала, что только так им с Эдвардом удастся установить контакт, вернуть его. Справиться. Никто, кроме них, справиться с этим не сможет – нужна помощь, да, участие... но Кэтрин столкнула лбами именно их двоих. Она знала, что делает, эта дрянь. Она знала, чем это кончится. Мне вдруг до ужаса хочется встретить ее еще раз, в идеале – наедине. Теперь я знаю, что физически могу быть очень сильной – никто не отменял эффект адреналина. Мне крайне хочется Кэтрин наказать – чтобы сполна поплатилась за то, что сделала. Хотя ответ Эдварда, наверное, будет куда красноречивее...
Сокол заходит в спальню минут через двадцать. Закрывает за собой дверь, пространно взглянув на нее сверху-вниз. Разминает плечи.
- Вы неплохо развлеклись, раз он так быстро уснул.
- Парки по душе Кайли, так что им было весело.
Эдвард выдвигает для себя ящик комода, медленно достав из него одежду для сна. Кладет ее на темное дерево небольшой стопкой, задвигает ящик. А потом упирается о верх комода обеими руками, наклонившись немного вперед. С минуту так стоит, не меньше.
- Эдвард?
Я сижу на покрывале, не зная толком, трогать его сейчас или нет – Эдвард мне не отвечает. Откровение, которым поделился Тревор, не может остаться для Falke незамеченным – как минимум потому, что своего сына он любит. А включение в эти события Сибель и ее матери, ситуации с этими лекарствами... оно все наваливается, как снежный ком, погребает под собой. Он уже наворотил дел, мой Эдвард. Он уже понял, что сделал. Теперь нужна сила, чтобы справиться. И вера. И доверие. Все это первостепенно, ничего не вычеркнешь.
- Иди ко мне, geliebt. Давай поговорим.
Его трогает нежность, которую так стараюсь пустить в голос, а может, моя тревога, которую исключить из него не могу... но Эдвард реагирует. Поднимается вверх, а затем медленно опускается его спина – на глубоком выдохе.
- Я боюсь, что я его убил, - едва слышно признается он. Не оборачиваясь.
Так. Это уже лучше, чем молчание. Я теперь молчание просто ненавижу.
Подхожу к Каллену и очень нежно обнимаю его со спины. Касаюсь щекой мягкой ткани кофты, чувствую легкую, мимолетную дрожь и непривычную прохладу кожи. Эдвард судорожно вздыхает.
- Почему?..
- Ему так больно... ты просто не видела.
- Но эта боль не навсегда, Эдвард. Она страшная и кажется, что сотрет тебя в порошок... но она притупляется. А потом – проходит.
- Он же жжет себя, Изз! – выплевывает, сжав зубы, Falke, - мой ребенок, можешь представить? Такое само собой не проходит.
Я легонько, бережно целую его спину у лопаток. Эдвард ниже опускает голову.
- Не само собой, ты прав. Ему нужна помощь. Хороший специалист на пару-тройку месяцев. Но и ты ему нужен не меньше.
- Те вещи, что он рассказал – мне с ними жить. Думаешь я не понимаю, что устроил?
- Важнее, что ты собираешься с этим делать. Какая разница, кто виноват и почему? Теперь.
Эдвард сглатывает, вздохнув глубже. Но дыхание, как и голос, у него то и дело срывается.
- Это ведь Я должен был его защитить, Я! – с чувством признается, - Я, Белла! А я...
Глажу его спину всей шириной ладони. Неспешно, от шеи и вниз, вдоль позвоночника, к ребрам. Он откликается на мои касания, выпрямляется. Мышцы, все до одной, напряжены.
- Он тебе позволил, видишь? Как только признался.
- Еще с утра – да, возможно, после обеда... но к вечеру... У Тревора еще никогда не было такого пустого, отчаянного взгляда.
- Может быть, ему нужно немного времени? Или больше сна? Он же не спал сутками. Он на пределе своих возможностей.
- Мы с Террен, Белла... к черту Террен, я. Я сполна заслужил родительские «лавры». Потому что меня не было – ни тогда, ни теперь. Трев так и сказал: тебя здесь никогда не было.
Я вздыхаю, погладив кофту на его груди, у ключиц. Эдвард хмурится, но не касается моих рук. Запрокидывает голову, справляясь с дыханием. Все еще пытается сам с собой справиться, не сорваться в эмоции.
- Но ты здесь сейчас. И у тебя еще есть возможность все исправить.
- Я не знаю, как ему еще больше не навредить.
Крепче обнимаю его, правой рукой огладив ворот кофты.
- Я скажу свое мнение, хорошо? Оставь Сибель в покое, забери обратно свои слова.
Эдвард сдавленно, невесело смеется, резанув меня металлом голоса. Кожа у него уже немного влажная.
- Фаб на них согласился, - угрюмо признается, - сказал, что уже даже попрощался. Только бы она не отвечала суду вместо него.
- Это плохо. Значит, он отчаялся. Ты очень зря... ты не должен был предлагать такое Тревору, Falke. Представь на его месте себя.
Он неровно, сдавленно выдыхает, носом втянув воздух. Почти плачет.
- Какая по счету ошибка?..
- Эдвард, повернись ко мне, - довольно строго, но все же прошу я.
Эдвард ударяет ладонями по комоду, отворачивается от него. И чуть выше поднимает голову, тяжело сглотнув. Недвусмысленно дрожит его подбородок и ходят крылья носа. Две маленькие, неприметные слезинки ползут вниз по правой скуле.
Я вдруг ясно вижу, насколько Сокол со мной откровенен. Рассказами, поведением, тревогами, болью... все то, что было в Берлине, не идет с Портлендом ни в какое сравнение. Здесь мы по-настоящему друг друга узнаем. Самое темное и самое страшное, тяжелое, неприглядное. И здесь, если я захочу, мне под силу Эдварда уничтожить. Потому что нигде и никогда более уязвимым я его не видела.
- Ты знаешь, geliebt, ты и вправду виноват, - честно признаю, бережно стерев его слезы, - все неудачно сложилось и стало хуже, но тебе не следовало так пренебрегать девушкой, которую Тревор любил. Потому что она стала его отдушиной во всей этой ситуации с Кэтрин, он справился с собой – с большего – благодаря ей. Быть может, если бы ее мать не попалась, а ты не настаивал на расставании, он бы так и не решился тебе сказать. Страх потерять человека, которого ты любишь, куда более сильный триггер, чем боль, страх и недоверие.
- Я же ничего об этом не знал... он ни разу мне, даже случайно, мимолетом... я уже ничего про него знаю, Белла.
Тревор говорил тебе, Falke. Также, как и мне. Только я его послушала. Слушать – первое, чему нам нужно научиться. Вместе.
- Теперь у вас есть шанс это изменить. У вас обоих. Фабиан еще верит тебе, он еще не отказался от этой веры. А ты?
Я глажу его челюсть, веду большими пальцами у носогубных складок, у линии рта. Эдвард тихо, сдержанно плачет. Ни звука, только узкие слезные дорожки.
- Я так его люблю, Schönheit... я не хочу, я не могу позволить, чтобы он мучился и страдал дальше... чтобы она довела его до суицида! Или я довел...
- Мы справимся с этим вместе, - и уговариваю, и обещаю я, мягко заглянув ему в глаза. Синий взгляд исколотый, мрачный, точно у Фаба. И залитый, доверху заполненный слезами. Но это хорошие слезы. Они ему нужны.
- Белла...
- Ш-ш-ш. Все образумится. Я в тебя верю и я знаю Тревора, вы – семья. Мы – семья, Эдвард. И дурной исход просто невозможен.
Вот теперь он плачет по-настоящему. Искажаются черты лица и становится прерывистым, громким дыхание. Изредка просачиваются в полумрак спальни всхлипы. Эдвард украдено стонет, реагируя на мои прикосновения. Чувствую его напряженные ладони на своей талии, на спине. И вижу, что Эдварду тоже больно. Они с Тревором в этот раз совпали.
- Я ненавижу жизнь, что была у меня до тебя, - измученно, хрипло шепчет он. – Я столько раз допускал ошибки, выбирал не тех... ты правду сказала, Белла, мои дети сейчас платят по моим счетам, это я сделал... если бы только я встретил тебя раньше... если бы...
У него срывается голос на этих словах. Эдвард научил Фабиана всему, мальчик его буквально скопировал – от решений в порыве злости до притворства, излишней мрачности, никому не нужной сдержанности, когда изнутри все перегорает, похоти, саморазрушения... они оба сполна заплатили за все, что только могли. Сами себя избили до смерти, изрешетили до кровавых рек. Хватит. Это все должно закончиться в этом декабре.
- Я сейчас здесь, Эдвард. И я буду, всегда буду. Тише. Тише, иди ко мне.
Я первая его обнимаю, но Эдвард почти сразу же мне отвечает. Он давно меня так не держал – и крепко, и отчаянно, и нежно до самой последней грани. Как величайшую ценность, как свое сокровище. Именно так утром он обнимал Тревора.
- Я столько боли тебе причинил, Schönheit... прости меня. За то, что так несправедливо обходился с тобой, за твои слезы, за страх, за этих чертовых людей вокруг, за мое прошлое... пожалуйста, прости меня! Ты так усердно, так смело ведешь меня к свету, а я каждый раз... каждый раз скатываюсь в эту долбанную темноту...
- Falke, - я целую его шею, линию челюсти, щеку, - для меня, для Тревора, для Парки ты и есть свет. В тебе его очень много. И прежде всего тебе самому нужно простить себя. Не все можно предотвратить, но все можно исправить.
- Я люблю тебя.
Эдвард жмурится, зарывшись лицом в мои волосы. Он еще немного дрожит и держит меня, быть может, слишком сильно. Но это терпимо. Я знаю, что порой только такие объятья нас и лечат. Сегодня я буду его опорой.
- Я тоже, - выдыхаю у его плеча, поцеловав кожу. - Я – тоже.
Вольно или нет, а Тревор размотал давний клубок всего, что с его родными происходило. Он пострадал сам, не без участия Эдварда, конечно, но без всей той неподъемной вины, что Сокол хочет себе приписать. Его патологический контроль был призван искоренить любые ошибки в их зародыше, но собственные просчеты успели пустить корни и подпортить жизнь самым дорогим его людям. Да, он виновен. Но он раскаивается. И это – не конец. Все карты на столе и момент слабости пройден. Мы сами решаем, где поставить точку.
Хватит и с меня тайн – последняя осталась.
- Эдвард, я ведь тоже перед тобой виновата.
Он сдавленно, смято хмыкает, пригладив мои волосы.
- Да ты что.
- Правда, - чуть отстраняюсь, касаюсь его ладони своей. У Каллена красные, припухшие веки и еще серебрящиеся слезами глаза. Есть в них некоторая настороженность, но в большинстве своем – теплая нежность. Она меня подначивает говорить быстрее.
- Ложь не бывает во благо, я в это долго не верила. До приезда сюда.
Он отводит прядку волос с моего лица, бережно ее коснувшись. Немного хмурится.
- Я знала про то, что сделала с Тревором Кэтрин. С того самого ужина с Террен. Я осознанно тебе не сказала.
Не могу предугадать его реакцию, хоть мне бы и хотелось. Помню его уверения, что лжи терпеть не станет, что о детях я не имею права молчать и все, что с ними происходит, в первую очередь должно быть известно именно ему. И я сделала свой выбор, я его подтвердила. И я ему говорю. Не потому, что сомневаюсь в наказании, наоборот, я к нему даже готова. Не потому, что хочу еще раз упрекнуть или разворошить раны. Я говорю, потому что я Эдварду верю, потому что я его люблю. И по отношению к нему это было нечестным – даже из благих побуждений для Тревора.
Каллен некоторое время молчит, я думаю, недолгое, но для меня оно тянется вечность. Серьезнее становится его лицо, почти незаметны теперь слезы.
- Фабиан тебе рассказал, но ты решила не делиться со мной?
Он так это спрашивает... скорее горько, чем зло. Я не скрою, что опасаюсь его злости, знаю, какая она может быть. Но разозленным Сокол точно не выглядит.
- Он не говорил. Я сама догадалась и он лишь подтвердил.
- Догадалась?..
- Да. Под тем мостом у дома, в Берлине... я обняла его, и он среагировал. Знаешь, дрожью и оцепенением – когда касаются в определенных местах, это запускает воспоминания. Я знаю, как это бывает.
- Откуда, Изза?
- У моей матери был друг, однажды он пришел ко мне и признался, чего бы хотел. Минут пять, наверное, меня уговаривал, гладил, касался – но когда понял, что тщетно, надо отдать должное, сам отстал. И больше у нас не появлялся.
Эдвард настороженно смотрит на меня с высоты своего роста.
- Ты мне об этом не рассказывала.
- Не только об этом, как видишь... я хотела, чтобы Тревор сам признался. Мне казалось, иначе будет сложнее. Я уговорила его.
- Как это, уговорила?
- Обрисовала перспективы. Надеюсь, он бы сказал и без этой ситуации. Если бы все сложилось иначе.
Эдвард жмурится, несколько раз моргает. Я вижу, что старается совладать с собой, хоть и не уверена, что это гнев. Похоже на разочарование. Ожидаемо. Печаль. Да уж. Темнеет радужка его глаз.
- Прости меня, - тихо прошу, вдруг поежившись в теплой комнате. Отваживаю себя от целого потока мыслей, торможу его на ходу. Я здесь и я спокойно приму его реакцию. Я смогу.
Его отрезвляет эта моя просьба. А может, так просто кажется? Потому что когда Эдвард подступает ко мне шаг ближе, возвышаясь в пространстве и не оставляя ничего вокруг, кроме себя, ощущаю липкую тревогу. Не страх, слава богу, только тревогу пока. Но глаза опускаю, руки вытягиваю по швам, а ногтями впиваюсь в ладони – снимает напряжение.
- Ты так решила наказать меня? – с сомнением, строго зовет Каллен. - Раз я ничего дельного до сих пор не сделал.
- Нет. Но Фабиану нужно было тебе поверить, чтобы себя спасти. У него совсем не осталось опоры.
- Но ведь ты могла сказать...
- Я боялась, что он сочтет это предательством и закроется окончательно. Я его видела в те ночи, Эдвард. Это была чистой воды агония.
Falke мягко касается моей руки, указательным пальцев погладив кожу у плеча. От неожиданности я вздрагиваю, ничего не могу с собой поделать. Эдвард хмурится, как от боли.
- Schönheit, не бойся, - заклинает, не иначе, наклонившись ко мне. Бережно, осторожно гладит снова, наблюдая за реакцией. – Ты в безопасности. Я никогда и ничего тебе не сделаю. Я не злюсь. Пожалуйста, только не бойся меня.
Я не хочу слез, я не чувствую их приближения, я даже не о них думаю. Но я вдруг понимаю, что плачу. Точно так, как Эдвард получасом ранее – беззвучно. И он тяжело, горько выдыхает, уже обеими руками обняв мои плечи.
- Я не от страха, мне просто... мне стыдно. Извини меня.
- Я же постоянно тебе про эту ложь, неверие, - болезненно нахмурившись, шипит Эдвард. Всматривается в мое лицо, а я бы хотела, чтобы отвернулся сейчас, слез так лишь больше. – Я поражаюсь твоей смелости, Белла. Ради моего сына. Это просто невероятно.
Мы делаем это снова. На одни и те же грабли, по одному и тому же сценарию. Опять. Но чудится, каждый раз проверяя доверие, лишь укрепляем его. Даже если сперва и выглядит это иначе. Я гораздо лучше узнала Эдварда в Мэне. А ему меня показал Берлин...
Мы делаем это снова. На одни и те же грабли, по одному и тому же сценарию. Опять. Но чудится, каждый раз проверяя доверие, лишь укрепляем его. Даже если сперва и выглядит это иначе. Я гораздо лучше узнала Эдварда в Мэне. А ему меня показал Берлин...
- Я помню, что ты говорил. Я никогда не стану... если только это не особые обстоятельства, как сейчас... мне нет смысла тебе лгать.
- Ну что ты. Только ты мне и говорила правду все это время, порой даже чересчур много правды, - он натянуто ухмыляется, постаравшись заразить меня оптимизмом, - тише. Извини, Sonne.
Я все же смотрю на него. Знаю, что надо посмотреть, потому что такие слова этого заслуживают. Мне жизненно важно, чтобы Эдвард мне верил. Настолько, насколько верю ему я? Не глядя на все это... не глядя на всех.
- Я никогда тебя не предам.
Его выражение лица смягчается, глаза мерцают, остатки влаги – отражение моей. Эдвард влюбленно, трепетно гладит мое лицо. Улыбается, когда не отстраняюсь.
- Мое сокровище. Я не сомневаюсь. Ничего, Sonne. Ничего... ш-ш-ш.
Я обнимаю Эдварда и он отвечает на мои объятья. Притягивает к себе, в который раз поменяв нас местами. Символично, наверное, что все и всегда заканчивается утешением меня. Хотя по своей сути Falke и есть мое утешение. В самом чистом виде.
- Мы все сделаем, чтобы это пережить, - горячо прошу его, обвив за шею. – И для Тревора, и для нас самих. Пожалуйста.
Эдвард и воодушевлен, и утешен нашим разговором. Он смотрит на меня с мягкой, но улыбкой, говорит уверенно и честно. Он, наконец, в это верит.
- Да, Schönheit. Да. Обязательно.
Обязательно.
* * *
Восемнадцать часов и десять минут.
Двадцать девятое декабря.
Портленд.
И место. Это место. То, где случилось бы мое первое убийство.
Убийство через удушение. Без киношного пафоса и литературных эпитетов, незамысловатое, скорое действо. Обеими руками, чтобы не дать и шанса. И медленно. Очень медленно. Глядя в глаза, наблюдая, как лопаются капиляры, как стекленеет радужка и расширяется зрачок. Не было бы никакой драмы, долгих разговоров, красноречивых цитат. Только уточнение – «за него». И простое, мирское, скоротечное удовлетворение. Больше она его никогда не тронет.
Это стало бы моим первым убийством, я отчетливо это понимаю. Сразу же, как вижу ее силуэт у серой стены облезлого здания, широкий пояс пальто, собранные в хвост волосы. Я держал их, обкрутив вокруг ладони и заставляя ее выгибаться подо мной, визжать, как свинья, задыхаться в оргазме. Сейчас на этом долбанном хвосте я бы ее повесил.
Кэтрин никогда не приходила вовремя. Но сегодня она здесь в точно назначенное время. Я паркуюсь чуть поодаль склада и вижу, как переминается с ноги на ногу, нетерпеливо вглядываясь в пустые ряды гаражей. С раннего утра сыплет мелкий снег. На улице морозно, это отрезвляет. По крайней мере, я не схвачу ее со спины, не ударю этой пустой головой о стену. Слишком просто – даже не станет мучаться. Нет.
Кэтрин ждет у склада игрушек моего сына. Она надругалась над всем, что было мне дорого, в счет моего греха с Маккензи получила чистый расчет. Но Фабиан – это последняя грань, точка невозврата и прыжок со скалы. Фабиан, который смотрел на меня этим утром совершенно пустым, безжизненным взглядом и отказался даже от воды, не говоря уже о пище. Фабиан кричал ночами, стремился все подробности, всю ту боль, что причинила ему, высказать, вытащить наружу. После молчания. После долгого, мучительного молчания, которое заставила его соблюдать она.
Нет. Кэтрин живой отсюда не уйти. Нет.
Я иду к ней, никак не таясь. Дверь закрываю неслышно, но вот шаги не стремлюсь делать меньше или тише. Пусть видит меня и неотвратимость своего конца. Пусть поймет, что все кончено и больше никогда даже сносно в жизни ей не будет, не говоря уже о том, чтобы хорошо. Пусть поймет, что тюрьма – лучший для нее вариант, даже чересчур милосердный. И чтобы ее там имели. Каждый. Божий. День.
Но Кэтрин будто в упор меня не замечает. Нет в карте реальности. И Тревор приходил сюда... мой родной, мой бесценный мальчик. Постоянно. Каждый месяц. Выпрашивая эти деньги, выдавливая их, зарабатывая, занимая... чтобы заткнуть ее грязный рот. Она ими подавится.
Не верно. Не место и не время для моих эмоций, это – история Тревора. Остальное – потом. Все потом. Сейчас только Кэтрин. Только эта тварь.
Кэтрин достает телефон. Сперва пачку с сигаретами, а потом, порывшись, телефон. Закурит? У меня перед глазами сигаретный ожог, что сам себе сделал Фабиан. Я больше не закурю – и ей тоже не позволю. Впрочем, Кэтрин сама убирает пачку в карман. Что-то набирает на айфоне, глянув по сторонам. Видимо, посылает смс Тревору. Но его мобильный – у меня. И звук сообщения приметной вибрацией разливается в пространстве. Кэтрин изумленно оборачивается, откинув хвост волос с плеч. Глаза ее, карие и живые, расширяются до немыслимых пределов. Словно бы мертвеца видит.
Почти правда. Палача.
- Эдвард, - кое-как совладав с собой, силится выдавить подобие улыбки. Снимает, буквально сдирает с лица этот испуг, проглотив удивление. Но губы ее, выдавая Кэт, дрожат. - Какими судьбами?..
Я подхожу к ней вплотную, зажав между стенами склада. Кэтрин тревожно оглядывается по сторонам, но все еще пытается улыбаться. Делает вид, что все это – случайность. И явно намерена от меня ускользнуть.
- Кого ты ждешь?
Она оправляет ворот пальто, расстегнув верхний рядок пуговиц.
- У меня были дела неподалеку.
Кэтрин пахнет своей блядской лакрицей, запах которой еще долго был со мной после. И Фабиан мне сетовал, что никак не мог смыть... никак не забывал его. Эта женщина похожа на ядовитый плющ – шипами проникает под кожу, доставляет боль и когда пронзает, и когда стараешься шип выдернуть. К чертям раздирает все до кровавого месива.
- Раз в месяц и стабильно, правда? Дела с Фабианом.
Она вздрагивает. Прямо-таки давится воздухом, заметно побледнев.
- Ер-рунда, Эдвард. Что мне здесь делать с... с Фабианом.
Я словно на несколько метров ее выше. Или ловушка захлопывается, не дав и шанса на благополучный исход. Или прознает, наконец, простое понимание, что теперь будет. Раз я здесь, не Тревор. Даже ее мозгу, воспаленному, смердящему мракобесием, высчитать это под силу.
Я усугубляю ее положение. Прижимаю Кэтрин к стене, отчего волосы ее тут же становятся грязными и мокрыми, двумя руками упираясь в склад. Никуда ей теперь не деться, даже не отвернуться.
- Говори мне. Ну же.
Она реагирует на приказ странным образом. Благоговейным. Чуть наклоняет голову, взглянув на меня с темным, но восхищением. Дрожат не только губы ее, но и ресницы. Сильнее пахнет вокруг лакрицей.
- Ты такой же, Эдвард... такой же, как и был.
- Ты что же, решила заменить меня?
- Разве тебя под силу кому-то заменить?..
Я обвиваю пальцами правой руки ее шею. Быстрее, чем отдаю себе в этом отчет. Кэтрин вдохновленно, хоть и чуть испуганно, выгибается. Сбивается ее дыхание. Жмурится.
- Моим сыном.
Выдыхает, сладостно нахмурившись. Медленно, слишком медленно открывает глаза. Смотрит на меня в упор.
- Ни в коем случае.
Я встряхиваю ее, заставив вскрикнуть. Кэтрин хватается руками за мою ладонь, за запястье. Не старается от нее избавиться, наоборот, словно бы хочет коснуться. Я начинаю сомневаться в ее душевном здравии в данный момент. Однако это точно не станет смягчающим обстоятельством для ее приговора.
- Что ты сделала с Фабианом? С моим ребенком. ЧТО. ТЫ. СДЕЛАЛА?
Вот теперь Кэтрин боится. Утихает этот нездоровый огонек в ее глазах и пропадает со щек румянец. Она поджимает губы, отводит взгляд.
- Ничего не было, Эдвард. Не после тебя.
- Он сказал мне, - перебиваю ее нелепую, вопиющую ложь, дернув у этой стены так сильно, что пальто скрипит о нетесаные кирпичи. - Так что открывай рот и поясняй. Чего еще я не знаю.
- У тебя неверная информация. Фаби не стал бы... ему не в чем признаваться.
- Ты хоть воображаешь, как закончишь, Кэт? ГДЕ.
- Ты меня так покалечишь.
- Будь моя воля, ты бы и вовсе осталась тут. Смотри мне в глаза. Как ты посмела тронуть Фабиана? КАК ТОЛЬКО ДОПУСТИЛА МЫСЛЬ.
- Эдвард...
Я давно не чувствовал такой злости. Бешенства, безумия, абсолютного отсутствия границ – как угодно назови. До мира, что окрашивается в красный фильтр и до зуда ладони, что прямо сейчас впечатается в женскую челюсть. Я бы избивал ее, пытал ее, душил... долго, очень долго. Столько же, сколько она... моего Тревора. Всю ночь.
- Я велел тебе к нему не приближаться. Ни к кому из тех, с кем я живу. Я говорил, чем это чревато.
- Ты зря так, Эдвард. Мальчишки любят выдумывать, не бери в голову.
- Ты сядешь за это, Кэт. Но сперва я сделаю так, чтобы ты пожалела...
Она вдруг безумно, совсем не к месту улыбается. Загадочно, неярко блестят ее карие глаза. И розовеет кожа.
- Ты сядешь со мной, - выплевывает, сильно ударив по моей руке, скорее для ощущения, чем для свободы. – За совращение. За сокрытие. За откуп. И, возможно, за убийство.
- Кензи не получит больше ни цента. Вся моя помощь закончена этим одним днем. И упаси ее бог являться ко мне с какими-то требованиями.
- Кенз будет судебным приставом, Эдвард. Уж она-то тебя...
- Если сможет погасить свой долг за обучение. А для начала – собрать деньги на твои похороны, Кэтт.
Она прищуривается. Игнорирует руки на своей шее, заходит с другой стороны.
- Фабиан в тебя такой неудержимый... ваше сходство поразительно! Даже в моменте экстаза, когда...
Я велю ей закрыть рот. И ударом, весьма красноречивым, и фразой, еще более понятной, нецензурной. Мое видение грозится стать реальностью: как Кэтрин повисает в моих руках тряпичной куклой, умирая от крепкого удара о стену. Или как закатываются ее глаза, вылезая из орбит, когда я душу ее. Или как каждый раз, когда смеет лишь словом упомянуть моего сына, иглы вгоняются ей под кожу. Сотни игол – по количеству секунд той ночи. ЗА каждую из секунд, что он страдал.
Кэтрин жмурится. Но не замолкает:
- Он получил удовольствие, мой мальчик. Он стал мужчиной со мной. Я всегда буду для него первой. И я всегда буду незаменимой для тебя, сколько бы ты не обманывался.
- У тебя будет максимальный срок, Кэт. И худшие условия. А если ты откроешь рот еще раз, поплатишься сотрясением.
- Ты плохо разбираешься в спорных случаях, - шипит она, дернувшись под моей рукой и вздрогнув всем телом. - Ты соблазнил мою дочь. Бедную, ни в чем не винную девочку, девственную и наивную. Опоил ее и посреди ночного клуба всадил ей по самые... я сделала куда меньше. Твой сын сам меня захотел. МЕНЯ. И он точно остался удовлетворенным. Я взяла лишь то, что мне причитается, Эдвард. То, что взял у меня ты.
Я сжимаю ее горло с предельно допустимой силой. Кэтрин смеется, выгнувшись на своем месте. Больно ударяется о стену, царапает кожу лица о темные кирпичи. Мелкие снежинки оседают на ее скулах.
- Правду всегда тяжело слышать, да? Т-тяжелл-л-ло. Да-а...
- Ты мразь, Кэтрин. Ты долбанная мразь. И как мразь ты сдохнешь.
- А вот это уже угроза.
Маккензи. Я помню ту ночь до миллисекунды. Как раскадровку старого кино, потрепанного временем – алкоголем. И взгляд Маккензи, и ее руки, ее губы, желание, ее движения... ее выражение лица и каждую свою фрикцию. Я помню, как она кончала, хотя вижу этот момент словно бы со стороны. И не помню ни секунды после секса. Как только меня с себя спихнула – темнота.
Хотел бы я, чтобы такая же темнота была у Тревора. Чтобы он смог этот ужас забыть.
Я делаю глубокий, отрезвляющий вдох. Я не убью ее здесь, это слишком просто. Она еще до черта должна. И Фабу – в первую очередь.
- Ты вернешь Фабиану все, что принес тебе. До последнего центра.
- Думаешь, он платил мне?
- Я знаю, что платил. Я знаю все, Кэтрин. Ни здесь, ни в суде тебе незачем отпираться.
- Ты должен мне куда больше, Эд. Фаби лишь возвращал долг, так что...
- Ты услышала меня. К вечеру деньги должны быть на счету.
- А если нет их у меня?..
- Мне плевать. В твоих интересах, чтобы появились. И еще. Упаси тебя дьявол еще хоть раз приблизиться к Фабиану. Донимать его, писать, искать... станешь глубоким инвалидом. Это касается всей моей семьи.
- Роз добра ко мне, в отличие от тебя, - хрипло шепчет Кэтт. – Она моя сестра, помнишь? Кенз – ее племянница. Ты настроишь против себя всю родню, Эдвард.
Она не имеет никакого представления о здравом рассудке. Она давно помешалась, выходит. Но доступа к психиатру не получит – не до суда. Сядет Кэт по всей строгости статей.
- Ни Роз, ни Террен. Никто тебе не поможет. Сбежишь из страны? Я найду тебя даже на том свете. И уж поверь, надругаюсь сполна.
- Ты блефуешь.
- А ты проверь.
Кэтрин сникает, опасливо, но гневно взглянув на меня из-под ресниц. Губы ее все еще дрожат. Я убираю руку, обтерев о ее пальто. Не держу больше Кэтрин, но она не сбегает. Наоборот, чересчур пристально, смело за всем наблюдает.
- Фабиан не мог сказать тебе всего. Еще многое окажется сюрпризом.
- Мы рассчитаемся с тобой за каждый «сюрприз», я обещаю.
Отпускаю ее. Отбрасываю от себя, избегая желания завершить начатое. Смотрю на Кэтрин долгим, прямым взглядом. Исчерпывающим.
Она торопливо глотает воздух мелкими вдохами, сгорбившись у складской стены. Исходит негодованием, горечью и... покорностью. Впрочем, покорность эта переложена гневом.
Кэтрин еще немало говорит мне вслед. Пробует бежать рядом, выплевывая то ли угрозы, то ли оправдания. Задыхается, отбрасывает волосы с лица, вскрикивает. Я всерьез намереваюсь прижать ей пальцы дверью, когда мешает мне сесть в машину. Оставляет отпечатки пальцев на стекле. Я уверено сдаю назад, включив аварийку, когда становится у багажника. С ней все.
Кэтрин остается у складов одна. Смотрит в мое зеркало заднего вида, сжав мобильный в левой руке. Взгляд у нее безумный. Но пусть ликует, что невредима и жива. Будет время привыкнуть к новому статусу за решеткой, не так быстро потеряет форму.
Я просчитался много раз. Даже в сравнении с послерождественским вечером, не говоря уже о беседе с Фабианом и многими событиями до нее, был настоящим идиотом. Не только мы меняем собственное мнение, его меняют и обстоятельства. Быть может, это мой последний шанс поступить правильно – и спасти сына.
Я сворачиваю на объездное шоссе, постаравшись о Кэт больше не думать – кончено пока. Адвокат начнет работу только завтра. Надо будет еще позвонить Розали, что у нее вдруг за дела с сестрой. И Элис. Когда-то Элис считала Кэтрин гуру в плане соблазнения. Надо ее проверить – и этого горе-редактора тоже. Сразу, как полегчает Тревви. А пока...
Я набираю незнакомый номер, ожидая разрешающий сигнал светофора у трассы. С телефона Фабиана, потому и трубку снимают так быстро. Она у него емко подписана «Herzblatt».
Кусочек сердца. - Тревор! – восклицает, будто только и ждала этого звонка. Отчаянно и громко.
- Это Эдвард, Сибель. Я скоро буду у твоего дома. Нам придется поговорить.
- ФОРУМ - Спасибо всем за прочтение и терпеливое ожидание. Будет потрясающе услышать ваши впечатления на форуме или здесь. Danke :)






































































 ... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в
... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в 






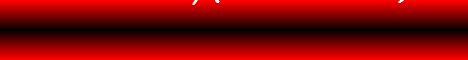



 Фабиан держался из последних сил и теперь практически не вилит смысла бороться за свое будущее. Но его видит Белла. Она и Эдварду, и Фабиану поможет.
Фабиан держался из последних сил и теперь практически не вилит смысла бороться за свое будущее. Но его видит Белла. Она и Эдварду, и Фабиану поможет. 


 Но он ведь не хочет простого решения, хочет от нее большего осознания... если оно еще возможно.
Но он ведь не хочет простого решения, хочет от нее большего осознания... если оно еще возможно.  Очень здорово, что понравилось.
Очень здорово, что понравилось.