– Сколько страниц было в твоей докторской диссертации?
Ее вопрос застал Карлайла врасплох. Он сразу же начал прикидывать, с чего вдруг Белла этим заинтересовалась. Хочет сменить тему? Строит невидимые, но вполне материальные мосты из слов и фраз? Если так, то куда попадешь с помощью такого вот на первый взгляд безобидного мостика? На другой берег? Берег чего?
– Почему ты спрашиваешь в прошедшем времени? Моя диссертация никуда не делась, как была, так и остается. И ты… ты же наверняка читала ее. Количество страниц с тех пор вряд ли изменилось.
От такого ответа по голым рукам – Белла была в кофточке с коротким рукавом – сразу же побежали мурашки. Это его замечание… Эта его уверенность в том, что она «наверняка читала» злосчастную диссертацию, на которую все априори ссылаются, но почти никто на самом деле и в глаза не видел, а кто видел, те лишь бегло изучали иллюстрации… Эта его уверенность ну просто убивала. Что же теперь следует ответить ей? Как вывернуться из неловкой ситуации?
– Я ее не читала, – его светлые глаза загорелись странного рода непониманием. – Я хотела, – тут же добавила Белла, – правда, хотела. Можно сказать, собиралась.
– Ты поэтому интересовалась количеством страниц? – теперь он говорил уже мягче, добрее. – Сто девяносто две, но десять из них занимает библиография.
Глупо улыбнувшись и сделав глубокий вдох, Белла положила на стол правую руку, протягивая ее ладонью вверх в сторону Карлайла. Ей необходимо было его прикосновение, ощущение его пальцев поверх своих. Не важно, теплые они будут или холодные. Главное, чтобы были. А сто девяносто две страницы абсолютно нечитабельного текста, на восемьдесят процентов состоящего из формул и непонятных пояснений… Что же, с этим придется смириться и теперь уже точно прочитать. Сама виновата. Зачем задала настолько глупый вопрос? Хотела разбавить чем-нибудь установившееся молчание и гнетущую тишину? Почему, тогда, не вставила замечание о погоде? Она не могла. Беллу всегда смущали в разговоре бессмысленные переливания из пустого в порожнее, раздражало бесконечное муссирование одной и той же темы, уже давно себя изжившей, но все же продолжавшей обсуждаться изо дня в день, из года в год. Она не хотела превращать и их с Карлайлом общение во что-то банальное, обыденное, привычное, больше всего боялась именно такого исхода. Сверху на этот страх накладывалось желание быть с профессором Калленом на одной волне, шагать в ногу: говорить на понятном обоим языке теоретической физики, приправленном местами ласковым, а порой и грубым шепотом уже другого, совершенно другого языка, заниматься исследованиями все в той же области, что и год назад, но уже не так рьяно, больше слушать, чем предлагать.
Он не желал к ней прикоснуться? Медлил. Очень медленно водрузил до этого свободно болтавшуюся вдоль туловища руку на самый краешек стола, согнул пальцы, вновь разогнул. Белла слегка подалась вперед, наклонила голову. Ее распущенные волосы чуть не утонули в еще не до конца пустой кофейной чашке. Вообще-то, с заколотыми или собранными в хвост было намного удобнее, но Карлайл… Вряд ли ему понравится. Его жена вечно сооружает на голове невесть какую прическу. Не от этого ли он в итоге сбежал?
– Белла… – ее имя слетело с его губ, сопровождаемое тяжелым вздохом. – Белла, нас здесь могут увидеть… – он запинался и говорил шепотом. – Белла, студенты…
Она поняла. Поняла сразу. Руку отдернула резко и шумно: чуть не опрокинула на себя все еще содержавшую остатки недопитого кофе чашку. Это было бы катастрофой, позором!
– Ты прав. Нам не нужно было здесь встречаться, – произнесла она довольно-таки сухо.
– Ты сама хотела. Ты сама все никак не могла дождаться понедельника, – ответил Карлайл с укоризной. Ей буквально под землю хотелось провалиться. Зачем же он так? Зачем так грубо, так открыто? И кем себя чувствовать после подобного упрека? Любимой женщиной или?.. Или дешевой подстилкой?
– Мне просто хотелось поговорить, – начала Белла тихо. – Твоя жена… она…
Карлайл вздрогнул, изменился в лице. Она хочет поговорить о его жене? Конечно. Этого следовало ожидать. Рано или поздно все к этому приходят. Пусть лучше сейчас, пусть рано. Вот так сразу взять и расставить нужные знаки препинания в их едва успевших начаться отношениях. Но сможет ли он? Готов ли?
– Белла, о чем ты? Я… – он каждой клеточкой своего тела ощущал неловкость, эта девушка одним взглядом его чуть ли не в краску вгоняла.
– Она знает? – Белла не хотела спрашивать. К чему лишний раз спрашивать, когда ответ известен, очевиден? Ей просто нужно было узнать, чем закончился вчерашний вечер, закончился ли вообще чем-то.
– Белла, понимаешь, у нас с Эсми ровные стабильные отношения, ничем не омраченные. Сейчас не время… не время трогать что-либо. Ты должна понять. Мой сын… Эдвард… Он учится в выпускном классе. У него небольшие проблемы с… по сути, это не важно, но если сейчас всплывет еще и…
– Да, конечно. Да, я все понимаю. Подростки, – Белла без перерыва кивала и натянуто улыбалась. А что еще оставалось? – Он ведь тоже пока ничего не знает? Да, Эдвард не знает? – последнее было спрошено хрипло и надрывно, но Карлайл не заметил – лишь кивнул.
***
«Вот и хорошо. Пусть и дальше так считает», – думалось Белле. Ведь он и без того ее осуждал, периодически указывал место, которое она занимает и место, которое пока еще не занимает. Тут никакие солнечные зайчики не помогут, тем более, откуда взяться этим самым зайчикам, если и стрекозы уже несколько дней, как нет.
Эсми, жену Карлайла впервые Белла увидала в декабре. Декан устраивал традиционный Рождественский прием. Жена декана устраивала… Приглашались все сотрудники факультета. Карлайл был с миссис Каллен, Белла одна. Сначала хотела появиться на этом мероприятии с Джейкобом, но тот занимался подготовкой бумаг к очередному слушанию. Юристы – люди невероятно скучные, все у них к сроку, все по заранее утвержденному плану. Элис упорно пыталась «одолжить» ей на вечер своего Джеймса. Белла посчитала подобное сущей глупостью. А если кто-то спросит о статусе мистера Симонса? Муж сестры… Ну разве не глупо?
Для Беллы этот Рождественский прием был первым. Она первый год участвовала в жизни факультета, играя уже не роль глупой зеленой студентки, а молодого сотрудника, возможно, даже перспективного. Кто же заранее знает? Многие преподаватели, которых она в тот вечер впервые видела в смокингах и, что не менее важно, впервые под руку с дамами, отзывались о ней весьма тепло и всегда положительно. Да и Карлайл, научный руководитель и человек, с которым у нее на факультете был самый тесный контакт, не предъявлял никаких претензий, всегда вел себя с ней ровно, вежливо, подчеркнуто официально. Никогда и ничем он не выказывал недовольства или заинтересованности. Лишь ловил недвусмысленные взгляды, ловил молча.
Ей безумно хотелось быть на месте миссис Каллен в тот вечер, чувствовать его легкие прикосновения, наслаждаться теплом и заботой, которые он, не стесняясь, излучал. Красавицей Эсми назвать было сложно. Обычная. Но как держалась! Как гордо несла голову, увенчанную изысканным хитросплетением рыжеватых волос! Как ненавязчиво улыбалась! Как смотрела! У Эдварда ее глаза, такие же серо-зеленые, только зеленого намного больше, да и горят ярче, особенно в полумраке мчащейся машины.
Вчера между ними пробежало что-то: что-то гнетущее и неизбежное. Понимание сложившейся ситуации? Все было в ее руках, исключительно в ее: и простоватый МакКарти, готовый делать, что скажешь, и темнота школьной стоянки, и даже то напряжение, образовавшееся в воздухе с появлением Эдварда. Чего она хотела? Подтравить мальчишку? Подыграть? Ей было больно до слез, когда его девушка, сверкая длинным розовым подолом платья, убегала прочь, когда он сам стирал рукавом кровь.
«Он-то совсем еще дурачок. Ему можно простить. А ты?» – мучил назойливый голос совести. Когда уже в машине Эдвард положил свою теплую ладонь ей на ногу, это было похоже на некую искру: как будто в голове сработал выключатель, как будто ранее неизвестная, невидимая сила наконец-то замкнула годами остававшуюся порванной электрическую цепь, и пошел ток, слабый, едва заметный, но все равно ощутимый. Чем же его мерить? Амперами или сказанными невнятным шепотом словами, взглядами, жестами?
– Если ты сейчас же не скажешь мне адрес, я позвоню твоему отцу, – ломая тишину, произнесла Белла. Эдвард убрал руку, последний раз утер нос салфеткой, застегнул верхнюю пуговицу рубахи и поправил воротничок.
«Чертов аккуратист», – подумала Белла, успешно забывая о том, что пять минут назад сама готова была сделать все это.
– Валяй! Звони, – ответил Эдвард грубо. – Обсудишь с ним и меня, и мое поведение. Желаю тебе успехов в освоении роли молодой и заботливой мамаши!
Наградить засранца увесистой пощечиной – это было самой первой мыслью, пришедшей к ней в голову после таких его слов. Сделав над собой неимоверное усилие, она сдержалась, а отдышавшись, принялась анализировать причины подобного порыва. За что? Что, собственно, такого Эдвард сказал? Чем так ее взбесил? Тем, что сейчас сидит в двух футах от нее, прислонившись щекой к холодному стеклу, сложив руки крестом на груди? Сидит и смотрит вдаль пустыми глазами – изображает оскорбленное достоинство.
Или тем, что сравнивает ее со своей матерью, женщиной, на которую она никогда не хотела быть похожей хотя бы просто потому, что не могла быть похожей, но место которой так страстно желала занять? Сравнивает со своей матерью, хотя до этого было прикосновение, был шепот, был взгляд. Кем она сама хотела представляться в его глазах? Что являлось более важным, близким, нужным?
– Эдвард, – позвала Белла тихо, он никак не отреагировал на этот ее зов. – Эдвард, не злись. Ты же знаешь, что я никому не собираюсь звонить. И ты знаешь, что я ни с кем не собираюсь тебя обсуждать. Все, что происходит… оно между нами…
Он повернулся в ее сторону. Тусклая зелень глаз едва подернута пеленой слез. Белла засомневалась, начала сожалеть о сказанном. Сможет ли она одна, никому ничего не рассказывая, вынести все это? В состоянии ли она? Удержит или сломается?
– Откуда мне знать, что только между нами? – задавая этот вопрос, он уже не пытался казаться ни серьезным, ни уверенным, никаким не хотел казаться, даже и думать об этом не думал. – Все так говорят. И все врут. А ты не можешь быть лучше других. Ты еще хуже.
Адрес он все-таки сказал, правда, уже после того, как пришлось сделать приличный круг по городу. Дом Калленов, перед которым она через полчаса остановила блестящий «бьюик» не отличался от десятков других домов, которыми в изобилии были застроены окрестности: два этажа, чердак, наверняка подвал, аккуратные приступки, облезлые кусты по фасаду, потрепанный, еще не до конца отросший с зимы газон. Белла посмотрела на часы. Пол-второго ночи. Сначала свет зажегся на втором этаже, потом сразу во всех окнах первого. Входная дверь отворилась. В темноту ночи скользнула знакомая женская фигурка. Эсми была во всем белом, волосы заплетены в косу и убраны назад, лицо намазано какой-то дрянью, и взгляд. Таким взглядом можно и убить. Он молниеносно оценивает буквально все, все, что в пределах видимости, заставляет неловко ежиться, опускать голову и уходить.
– Мама, зачем же ты выбежала? – спросил Эдвард мягко. – Пойдем в дом, пойдем же, – продолжил он уже с настойчивостью, ранее удачно скрытой, запрятанной глубоко-глубоко.
Эсми не произносила ни единого слова, лишь все никак не могла отвернуть голову да выворачивала руку, за которую тянул в сторону дома Эдвард легонько, но уверенно. Белла молча стояла посреди дороги и ждала, когда же эти двое скроются в доме. Ни шевельнуться, ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Номер Джеймса Изабелла набрала уже ближе к трем. Ноги ее, бездумно шедшие вдоль незнакомой улицы, болели от усталости и постоянного напряжения: давали о себе знать каблуки. Плечи, едва прикрытые тонкой курткой, безжалостно мерзли.
– Забрать тебя? Великолепно! – кричал взбешенный Джеймс. – Ты знаешь, который час? Ты знаешь, что Элис до сих пор не спит? Ты думаешь хоть иногда о других людях? Хотя бы о ком-то думаешь, Изабелла?
____________________
Журавль
В античные времена журавль вызывал удивление своей неутомимостью в полете; крыло журавля считалось амулетом от вялости и утомления. По непонятным причинам журавль считался священной птицей богини плодородия и земледелия Деметры. Его перелет, в процессе которого он возвещал о наступлении весны, сделал его символом обновления (в христианскую эпоху – символом воскрешенных), его удивительный брачный танец стал олицетворением радости жизни и любви. Так же как аист, журавль пользовался уважением за то, что уничтожал змей. В древнекитайской символике считалось, что изображение журавля на камне или на сосне обеспечивает продление жизни и хорошие отношения между отцом и сыном (птенцы журавлей отвечают на крики родителей). Кроме того, он был символом мудрости, вероятно, из-за того, что поза, которую принимает отдыхающая птица, производит впечатление «созерцательной». Поднимающийся к солнцу журавль выражает пожелание общественного подъема. В индийских же преданиях он часто выступает как воплощение лживости, лицемерия и коварства. В книге Хоберга эпохи барокко журавль предстает символом бдительности.
Стрекоза
Особым уважением стрекозы пользуются у японцев, они считаются символом воинственной отваги. Их приносили в жертву богам, прося победы. В Китае стрекоза ассоциируется с наступлением лета, в Малайзии является символом призрачности, у американских индейцев – вихря, быстроты, активности. На Западе она часто ассоциировалась с ведьмами (на английском языке слово стрекоза звучит как «dragonfly», дословно – «драконовая муха»). Славянские народы относились к стрекозе со страхом и предубеждением, считали ее ездовым животным черта. Сегодня стрекоза – символ лёгкости, грациозности, легкомыслия, скорости. Она как бы находится в двух мирах. Ее переливающиеся крылья навевают воспоминания о магических временах и помогают осознать, что в этом мире существует только видимая реальность. Глядя на стрекозу, думается о том, что наша жизнь так же быстротечна, что не следует превращать ее в унылую действительность. По фэн-шуй символ Стрекозы используют, если хотят пожелать легкости и новизны в партнерских отношениях.
































































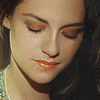


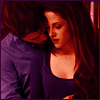



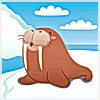 ...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в
...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в 









