Любите ли вы мужчину за его лицо?
Я была медсестрой в
ValleyForgeGeneralHospital летом 1943 года
(п.п.: военный госпиталь в Фенниксвилле, Пенсильвания, построен в 1942 и открыт в 1943 для раненых во время войны). Работала там уже месяц или два, но на местности начала ориентироваться только недавно. Первый раз в жизни у меня появилась репутация опаздывающей: я стала известной среди других девушек, потому что много раз терялась в этом месте. Оно должно было стать чудом архитектуры, и, наверное, так и было.
Город из двухэтажных зданий красного кирпича с деревянными панелями внутри был соединен между собой проклятыми коридорами. Все одинаковые, мало что их отличало, кроме чисел на дверях. И отсутствие лестниц не помогало: этажи соединялись длинными пандусами, так было проще возить каталки, да и пациенты в креслах-каталках могли ездить куда им заблагорассудится. Я понимала, что это все хорошо и важно, но все равно доходила до белого каления, пытаясь найти кого-то.
И у нас было много этих кого-то. Более двух тысяч пациентов. И все солдаты.
Их травмы были намного серьезнее, чем те, что мне доводилось видеть в скорой помощи Колумбии, но не в этом было самое большое различие. Для меня оно заключалось в сломленном духе: воспоминания о войне, сомнения, связанные с возвращением домой – вот что отличало их от моих прежних пациентов.
Это странно. Теперь, когда ты говоришь
“Касабланка”, люди думают только об Ингрид Бергман и Хамфри Богарте
(п.п.: актеры, сыгравшие в 1942 году главные роли в романтической мелодраме “Касабланка” режиссера Майкла Кертиса), но тогда это был город, где погибли сыны сорока восьми штатов, защищавшие Северную Африку. Были те, кто не умер, но хотел бы. Думаю, это история одного такого человека.
Он был военным врачом. Уроженцем Англии, но изучавшим медицину в Америке. Жившим в Америке. Вступившим в американскую армию. Помогавшим Транспортному Корпусу США, где в тот день в Касабланке была нехватка людей. Он делал то, что обычно медицинских работников даже не просили делать. Он выгружал горючее с судов снабжения.
Работа, с которой обычно не беспокоили врачей, но ее надо было делать, чтобы война продолжалась.
Немцы обстреляли док, когда в его руках была канистра с десятью галлонами бензина.
Она взорвалась.
Они двинулись дальше, парни, выбравшиеся из Касабланки. На Гафсу и перевал Кассерин. На Хилл 609, Тунис и Бизерту. Этот военный врач остался позади в качестве пациента своих же друзей и коллег. Они сделали ему семь операций, прежде чем отправить обратно.
Семь операций, а у него все еще не было лица.
В тот день, когда его привезли сюда, половина головы у него была забинтована. Я видела лишь челюсть и рот, а кожа, видневшаяся с левой стороны, была натянута от тонких белых шрамов. Они отлично заживали, над ним хорошо поработали. Но я знала, что у него навсегда останутся эти шрамы. Все утро он провел с закрытыми глазами, но не спал, это было очевидно. Так что я отвела одного врача в сторонку, интересуясь, есть ли какие-то необратимые повреждения, о которых нам следовало знать. Я подумала, что он просто не может открыть глаза.
Доктор ответил, что мужчина мог это сделать. Только не хотел.
Был чудесный июльский день, один из тех, когда солнце кажется золотым и ты радуешься его лучам. Мы были в отделении, где находились мужчины с перевязанными лицами, и куда меня часто назначали. Состояние некоторых было хуже, чем у него, но у большинства - нет. Легкий ветерок из окна, открытого, чтобы охладить и успокоить присутствующих, доносил запах свежескошенной травы. Всем было сложно не думать о пикниках и играх из нашего детства.
— Эй, Эсми! — бодро позвал балагур с седьмой койки. — Может, принесешь мне холодненького пива?
Я рассмеялась и кивнула ему:
— Как только закончу с осмотром.
— Да! И мне, пожалуйста! — вклинился пациент по соседству.
— Сладкая, я женюсь на тебе, если сможешь раздобыть пакетик арахиса для меня…
Вскоре вся комната наполнилась просьбами, парни вели себя как школьники, ожидающие, что учитель будет простофилей.
— Ладно-ладно! — я попыталась утихомирить их улыбкой и кивком. — Вы, клоуны, хотите не медсестру, а официантку!
На самом деле они хотели стать такими же, как прежде. Им хотелось чувствовать, что они могут дурачиться с симпатичной девчонкой, как раньше, заигрывать с медсестрами и получать пиво исподтишка. Им хотелось немного участия, но неявного. С этим легко было справиться, если ты не был строгим человеком.
На пути к выходу я остановилась у койки номер тринадцать. Именно сюда они положили военного врача. Глаза у него все еще были закрыты. Руки с длинными тонкими пальцами лежали по бокам, такие руки у меня теперь ассоциировались с врожденными талантами врача и отработанными навыками. Мгновение я колебалась, но затем заговорила:
— Хочешь выпить?
Наконец он открыл глаза. Голубые. Голубые, как стекло, они сверкали между полосками бинта и изуродованной кожей, покрасневшей и ободранной по краям, где раньше были ресницы. Это глаза были наполнены мудростью горя, ничего прекраснее и печальнее я раньше не видела. Я практически задохнулась.
Мужчина приоткрыл рот, словно собираясь заговорить, но отвернулся и вновь закрыл глаза.
— Будешь пиво? — снова поинтересовалась я. — В этой палате можно выпивать. Врачи не против, если не перебираешь с этим делом. Я как раз собираюсь принести несколько бутылочек ребятам, так что никаких проблем.
Он качнул головой, совсем слегка.
— Если передумаешь, то только скажи.
Нет, он не передумает.
Я отправилась вниз в магазин, где набрала достаточно бутылок для всех, даже для тринадцатой койки, если решение изменится, и вернулась в палату. Раздала пиво, и вскоре завязалась тихая довольная беседа. Кто-то включил в углу радио, чтобы послушать репортаж с бейсбольной игры, но понизил громкость, чтобы не беспокоить остальных. Такое умиротворение в комнате, полной людей, вернувшихся из ада пуль и огня, можно только представлять.
Я присела на край тринадцатой койки, так садятся при посещении старого друга после операции. Я не одна из тех девушек, кто часто проявляет физическое внимание к пациентам. Не смахивала им волосы со лба и не держала их за руки. Мне приходилось следить за такими вещами, иначе бы слухи поползли и дошли до начальства. Но сегодня был спокойный день, никто не обращал на меня внимания, и я просто сидела подле него.
Почувствовав, как прогнулся матрас, мужчина взглянул на меня. На нижней части его лица не было какого-то определенного выражения. Ни любопытства, ни удивления, ни располагающей улыбки, как у кого-то, кто хотел бы поговорить.
— Прости, что беспокою, — начала я, — знаю, что ты устал с дороги…
Он не ответил. Лишь моргнул очень медленно, словно это причиняло ему небольшую боль.
— Я слышала, как врачи говорили, что ты был в Касабланке. У одной девушки из психиатрического отделения муж был в Касабланке. Тоже в Транспортном Корпусе. Я подумала…
Ничего не дрогнуло. Ничего не изменилось.
— Его фамилия Уитлок. Джаспер. Все зовут его Джас.
— Он в порядке, — он заговорил, и я так и думала, что именно таким будет его голос. Хрустящий, как хлопок, с трудноуловимой ноткой английского акцента. Три маленьких слова, но они вызвали мою улыбку. Уверена, он подумал, что это облегчение от хорошей вести про мужа Элис.
Конечно, Элис узнала о муже днем ранее и зачитала письмо от него мне и паре других наших друзей прошлым вечером. Я отлично знала, что лейтенант Уитлок был жив и планировал отправить домой целый ящик настоящих африканских фиников, как только сможет.
Мне просто нужен был предлог для начала разговора.
— Это в его роте ты…
— Нет.
— Ты знал его?
— Он в порядке, — с этими словами он вновь отвернулся.
Мне сказали, что взрыв задел оба уха, большую часть носа и сильно повредил кожу верхней части лица. Любопытно, как он выглядел тогда и сейчас. Я не знала цвета его волос, даже понятия не имела, остались ли они у него. Иногда парни попадали сюда с ранениями на полголовы, и волосы отрастали клоками. Иногда весь скальп оказывался поврежден.
Я задавалась вопросом, что скрывалось под бинтами. Меня это волновало, но по какой-то странной причине страха или жалости к нему я не испытывала. Мне просто… хотелось узнать, насколько все могло быть плохо.
— Может, уйдешь? — он заговорил так тихо, что я едва расслышала.
— Прости. Мне не следует утомлять тебя, ты, должно быть, хочешь спать.
— Нет. Я не хочу спать, — он покачал головой, его ясные голубые глаза смотрели с некой пустотой, разбивавшей мне сердце, — я просто не желаю, чтобы ты тут сидела.
***
— Его психологическое состояние и впрямь настолько плачевно? — спросил главный хирург, откинувшись в кресле.
Мы все собрались в одном из конференц-залов: главный, психиатр, проводивший осмотр пациента с тринадцатой койки, заведующий отделением пластической хирургии, два пластических хирурга и две других медсестры, работающие в палатах этого отделения. Люди, которые, вероятнее всего, будут общаться с пациентом регулярно, и люди, ответственные за план его лечения.
В нормальных обстоятельствах медсестер не приглашали на такого рода собрания. Хирурги считали нашу работу само собой разумеющейся, но психиатры потребовали нашего присутствия. Все должны были быть в курсе состояния пациента – его лечение будет такой же нервотрепкой, как обезвреживание бомбы в доме с привидениями.
— Это будет трудной задачей, — заявил психиатр, сдвинув очки к переносице. Он выглядел слегка потрясенным.
— Хорошо, и что мы будем с ним делать? — главный повернулся к заведующему.
— Они сделали семь операций, но это лишь для того, чтобы организм продолжал функционировать. Сохранить дыхание через нос, возможность слышать. Все в таком духе. Реконструкция займет, по крайней мере, двадцать операций, и я могу гарантировать, что мы с ними справимся.
— Два года, говорите? — главный сделал пометку на задней стороне папки.
— Консервативно, да.
— Два года… — психиатр произнес это заинтриговано. Кажется, он не был уверен, что сможет уберечь нашего пациента от сумасшествия так долго.
— Если не будет никаких серьезных задержек, — кивнул пластический хирург.
— Вы пессимист, доктор? — спросил психиатр.
— Не специально, — развел тот руками. — Я всего лишь хирург.
На секунду или две комната погрузилась в тишину. Нечасто нам попадались случаи, работа над которыми поначалу казалась такой огромной и, на удивление, бесперспективной. Но все мы в этом госпитале были крепкими орешками, так что после легкого испуга совещание вернулось в привычное русло.
— Ладно, что случится, когда мы сделаем ему лицо? — спросил главный, хлопнув в ладоши, вновь привлекая внимание собравшихся. А, может, это нервная привычка. Я никогда не проводила много времени с ним.
— Увольнение из армии, это точно, — развел руками психиатр. — Такой шок для любого будет чересчур.
— Сколько он знает? О том, что его ждет? — поинтересовался хирург.
— Имеете в виду, понимает ли он пределы возможностей операций, которые ему предстоят? — уточнил психиатр. — Есть ли у него представление, каким будет его лицо, когда вы закончите? Боюсь, что так. Он врач, он соображает, что происходит, намного быстрее, чем любой другой на его месте. Клиническое отсутствие надежды и отказ верить в лучший исход – вот что будет самым большим препятствием на пути к его выздоровлению.
— Что если привести семью навестить его? Он готов к чему-то подобному? — задал вопрос главный.
— Славный жест, шеф, — покачал головой психиатр. — Но не думаю, что он будет готов к такому. К тому же в документах сказано, что у него немного осталось от семьи. Родители мертвы. Есть сводный брат, но он в Тихоокеанском регионе. Так что ничего хорошего.
— Ну это все мои предложения, — пожал плечами главный. — Давайте составим для него график операций до конца дня. Все считают, что они займут два года?
Все за столом одновременно кивнули. Никакого бешеного энтузиазма или командного духа, никакого непреодолимого желания сделать все возможное, чтобы спасти лицо пациента с койки номер тринадцать. Мы не строили иллюзий о великом успехе или упоминании в Time Magazine за это.
(п.п.: американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке, освещающий рейтинг людей за период (год, столетие и т. д.)) ***
На следующий день шел дождь. Элис получила письмо от мужа – тот был на Сицилии. Другая девочка получила письмо из военного министерства с сообщением о гибели супруга. Это были такие вещи, о которых сложно было не думать, особенно если кто-то тебе близкий все еще был там. Я не знала, каково это, не могла даже догадываться.
Я была раз замужем. И он погиб к тому времени. Я не скучала по нему.
Утро я провела, следуя обычному распорядку, включая кидание взглядов в сторону тринадцатой койки, когда думала, что меня не поймают. Он никогда не читал книг, хотя на тумбочке рядом лежала стопка. Я не знала, взял ли он их сам из библиотеки, или кто-то из ночных медсестер принес их ему. Он не разговаривал с другими ребятами в палате, но такое бывало. Не всегда легко вернуться в мир, даже если остальные в комнате проходят через то же, что и ты.
Большую часть времени он просто смотрел в никуда. Потерянный в мыслях, которые мне хотелось услышать, но он никогда их не покажет.
Я хотела, чтобы он поправился. Не только лицо, они сделают все возможное на операциях. Я хотела, чтобы излечилась его душа. И его разум.
Я беспокоилась за него.
Пластический хирург зашел во время ланча и подвинул один из этих ужасно неудобных стульев к тринадцатой койке, чтобы поговорить с ним. Врач кинул на меня быстрый взгляд, давая понять, что присутствие спокойной знакомой девушки пойдет пациенту на пользу. Так что, не привлекая особого внимания, я поспешила собрать медикаменты, которые необходимо было принять вместе с пищей, и направилась к ним.
— Карлайл Каллен, — зачитал он с карты, хотя и так отлично знал его имя. — Маме нравилась буква “К”, Каллен?
Больной вяло и безразлично взглянул на него и вновь отвернулся.
— И все же Карлайл немного вычурно, нет? Как ребята за границей тебя называли?
— Док.
— Да, думаю, так и звали. Ну что же, Док, кажется, мне понравится над тобой работать. Я люблю вызовы, заставляющие превосходить себя. В медицинском я всегда был парнем, вечно берущимся за то, что казалось невыполнимым. Уверен, что у вас в Хопкинсе был хотя бы один такой. Вы же там проходили практику?
(п.п.: Медицинская школа Джонса Хопкинса входит в состав Университета Джонса Хопкинса (англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор, штат Мэриленд, США) Пациент кивнул.
— Очень престижно, — продолжила я с ободряющей улыбкой.
— Покруче, чем там, где обучали меня, — засмеялся хирург. — Но я работаю нормально. Особенно с лицами. Сигарету, Док?
— У меня свои, — он достал пачку из-под подушки и вытащил из нее одну сигарету. Я удивилась, что они у него были. Никогда не видела его курящим.
— Вот, — хирург поднес спичку для него, затем прикурил сам. — Вы уже далеко зашли. Был тут парнишка, мы его выписали на позапрошлой неделе, у него обгорело лицо. Он не мог этого делать год.
— Держать сигарету между губ? — спросил мужчина ровным, неэмоциональным голосом.
— Нет. Смотреть на спичку и не дергаться, — объяснила я за врача, и голубые глаза метнулись в мою сторону, словно я и не стояла тут все время. Будто ничего не говорила до этого.
Я знала, что должна была ему мило улыбаться, но лишь глядела в ответ, пока хирург продолжал говорить:
— Я люблю быть честным с пациентами, и нет смысла тешить тебя лучшим исходом, уверен, ты уже веришь в худшее. Я расскажу, какие именно операции мы будем делать, и что будет улучшаться. Иногда ты не сможешь заметить этих улучшений, думаю, тебе это и так известно. Я рад, что ты уже это знаешь. Сэкономит мне время, не придется использовать метафоры про фундамент дома.
— Ненавижу эти метафоры.
— Они, может, и клише, но подходят. Не возражаешь, если я покажу медсестре Эвенсон твою фотографию?
— Мою… фотографию? — неожиданно холодные голубые глаза превратились из стали и камня в воду, мечась между мной и хирургом. В них было понемногу испуга и стыда.
— Да. Твое старое фото из дела. Тебе должно быть известно, что для таких работ мы используем фотографии. Я хочу убедиться, что ты будешь выглядеть как можно более походящим на Карлайла Каллена, а не какого-то парнишку из моего воображения…
— Нет! — произнес он вдруг, сев. — Нет, не показывайте ей. Не показывайте ей эту фотографию, пожалуйста.
Несчастный врач остолбенел. Обычно пациентам нравилось показывать изображения старых себя из более счастливых времен. Это были настоящие они, те, кем они по-прежнему ощущали себя внутри. Этого человека внутри и должны были вернуть операции и мучительные дни в госпитале. Большинству казалось, что они должны похвастаться.
— Ничего. Мне не надо ее видеть, — мягко согласилась я. — Думаю, вам стоит начать с его ресниц. Эти голубые лазеры любую женщину собьют с ног. Несколько ресниц, возможно, смягчат удар.
Мне было известно про первую по графику операцию по восстановлению ресниц и бровей, и хирург знал, что я в курсе. Больной, возможно, подозревал, но мне кажется, он был рад подыграть в этот раз.
— Отлично, тогда брови и ресницы, — кивнул мужчина. — Тебе повезло, что у тебя есть медсестра Эвенсон. Ей нравится, когда мужчины выглядят гармонично. Реалистично. Думаю, медсестра Хейл сверху будет счастлива, только когда каждый выписанный от нас мужчина будет выглядеть готовым к прослушиванию на роль Супермена.
— Мне все равно, — сказал пациент с койки номер тринадцать так тихо, что я почти не расслышала его.
— Что ты сказал, Док? — переспросил врач.
— Мне все равно, — повторил он на этот раз громче. — Мне все равно, с чего вы начнете. Мне все равно, что вы будете делать.
— Может, тебе и все равно сейчас, но все изменится, когда ты увидишь, что я смогу сделать. Знаю, идеально не будет…
— Вы собираетесь взять волосы с моей шеи сзади, чтобы сделать из них ресницы и брови. Они будут расти одновременно с теми, что на шее, поэтому мне придется их стричь. Мне нужно будет каждые две недели стричь ресницы, иначе я буду похож на клоуна.
— Это не так сложно, — напомнил хирург.
— Делайте, что хотите. Я это все понимаю.
— Отлично, — вздохнул он, — просто отлично. Я вернусь за тобой через пару часов. Что значит – сегодня никакого ланча.
— Я в курсе.
Хирург покачал головой, махнув рукой на положенное поведение с пациентом и приятный разговор. Он сделал в данной ситуации все, что мог, остальная работа была для психиатров. Взглянув на меня, разбитый, он покинул комнату.
Я осторожно присела на край кровати, как в первый день, когда его привезли. В этот раз пациент не закрыл глаза и не отвернулся, только ждал. Уныло и безразлично.
— У тебя лучшие пластические хирурги в госпитале, — сказала я, он не ответил.
Просто продолжал ждать.
— Возможно, он даже лучший хирург в стране.
— Не думаю, что тебе следует утруждаться разговорами со мной, — произнес он.
— Знаю. Ты хочешь, чтобы я ушла, потому что думаешь, будто я жалею тебя, и ненавидишь эту мысль, — пожала я плечами. — Но мне тебя на самом деле не жаль. Я видела мужчин и с травмами похуже твоих, и историями куда печальнее. А еще я знаю, что эти операции сделают с тобой и как все выйдет в конце. Если мне кого и жаль сейчас, так это себя.
— Почему?
— Сделать тебе новое лицо – это просто старая добрая медицина. Пересадка кожи, хрящей и волос. Не то чтобы это можно было назвать легким, но оно довольно ясно. Хирург делает то, что обычно, и на столе ты для него просто сложная работа, — объяснила я ему. — Но мне приходится терпеть тебя большую часть дня с твоим так называемым характером. Слишком много требуете от девушки.
И будто показались искорки в голубых глазах. Какой-то намек на что-то кроме неудовлетворенности. Лишь намек, но, казалось, что это самая важная победа во всей войне для меня.
— И это все? — уточнил он.
— Все.
***
По радио передавали сообщения о бомбардировке судов снабжения в Салерно. В этот день мы поддерживали в отделении тишину. Многие парни все еще пугались разговоров о бомбах и взрывах. Больной с тринадцатой койки выглядел к тому моменту немного иначе. Большую часть дня его лицо было скрыто за бинтами, ушей и части носа у него все еще не было, но ресницы начали расти. И брови тоже уже появились.
Иногда он разговаривал с пациентом с двенадцатой койки. Нечасто и недолго, но они обменивались короткими репликами. Периодически он просил холодного пива, если я собиралась принести его для других в жаркий день. Но, несмотря на то, что ему позволялось ходить, он не уходил от кровати. И даже не подходил к двери, чтобы его не могли видеть проходящие по коридору люди.
Уверена, он все еще боялся остального мира. Мира, в котором у мужчин есть лица и люди в помещении не находились в том же положении, что и он, где видеть мужчину без носа или ушей не считалось обычным делом. Мира, где у людей были глаза и не было нужды сочувствовать или быть благодарными за его службу. Где люди – женщины, дети, да кто угодно – могли отвернуться от него в отвращении.
Однажды утром я пришла на работу и обнаружила его подметающим пол рядом с пустыми кроватями.
— Наконец-то решил выполнить свою часть работы? — поддразнила я, и когда мужчина повернулся, могу поклясться, он сдерживал улыбку.
— Просто небольшая зарядка.
— Водить метлой теперь зарядка?
— Ну зато есть чем заняться.
Я кивнула, думая, что он опять вернется к своей угрюмой и молчаливой рутине. Вместо этого он заколебался на мгновение, оглядев комнату. Убеждался, что никто не слушал. Затем заговорил:
— Ресницы… Они странно ощущаются.
— Они не выглядят странно, — ответила я.
— Честно?
— Честно. Они выглядят, как у любого другого.
Больной кивнул.
— Ну, — начала я, пытаясь сдержать зевоту. — Я в гарнизонный магазин за чашечкой кофе.
— О...
— Знаешь, там довольно тихо по утрам. Мало народа.
— Я… — произнес он, набираясь решимости. — Думаю, если ты не возражаешь, я бы хотел пойти с тобой. За кофе.
— Конечно, — согласилась я с улыбкой, будто это был самый легкий в мире вопрос с самым простым ответом.
Мы шли по коридорам рука об руку в легкой тишине. Но чем дальше мы отходили от отделения, от его палаты, к которой он привык, от безопасности и границ
регулируемой кровати, тем сильнее я ощущала его беспокойство. Воздух вокруг него, казалось, стал плотнее, напряженнее. Краем глаза я заметила, как выражение легкости на его лице сменилось привычным жестоким и пустым.
Какая-то часть меня переживала, что он снова закроется в себе, развернется и, не говоря ни слова, уйдет обратно в палату. Но другая часть знала, что он не собирался этого делать.
Мы дошли до гарнизонного магазина, и я распахнула дверь, словно сорвала пластырь. Кто-то включил музыкальный автомат, игравший лирические песни и медленные инструментальные композиции. Легкая музыка для раннего утра вместо шумных хитов во второй половине дня.
Несколько столов было занято. Перед прилавком была очередь, но, в общем и целом, было мило и вяло.
— Привет, Эсми! Как дела? — в комнату въехал пациент из другого отделения, где я тоже работала. Он был одним из общительных типов, с пятью сестрами и разными историями с сельских праздников почти для каждого дня месяца.
— Привет, Джонни. Как ноги?
— Завтра примеряют протезы.
— Отлично! — воскликнула я. — Расскажи потом, как пройдет.
— Если смогу тебя найти! Кажется, ребята из ожогового прибрали тебя к рукам в эти дни! — он подмигнул, кивнул на парня с лицом в тонких белых повязках рядом со мной, и уехал.
Я выбрала столик для нас. Ближе к углу, но и не совсем вдали ото всех. Когда Карлайл, выглядевший более уверенно и свыкнувшийся с идеей выхода из палаты, сел, я направилась за двумя кофе в бумажных стаканчиках.
— Кто это? — поинтересовался он, когда я вернулась, кивнув в сторону мужчины за столиком на другом конце комнаты.
У него были темные волнистые волосы, а на столе перед ним лежала книга.
— Это? Чарли Свон, — ответила я. — Немецкий снайпер подстрелил его. Проснулся уже слепым. Лучше, чем проснуться мертвым, как он говорит.
— Он слепой?
— Поэтому в темных очках. Он их носит не для того, чтобы казаться загадочным.
— Значит, это
книга Брайля?
— Ага. Он изучает право, — объяснила я. — До войны он был полицейским. А для этого нужны глаза, но правосудие, говорят, слепо. Так что он слегка изменил направление.
Док улыбнулся, глядя на мужчину с другой стороны помещения, читающего пальцами и пишущего собственную судьбу. Первая настоящая его улыбка, которую я видела. Улыбка впечатленного человека и, может быть, немного обнадеженного.
— Слышала, у тебя брат за океаном, Док, — заговорила я, пытаясь поддержать разговор.
— Можешь звать меня Карлайл, если не возражаешь, — он взглянул на меня, все еще улыбаясь. — Мне всегда нравилось мое имя. Думаю, я редкость в этом отношении. Большинство людей не любят свои имена. На самом деле, большинству, кажется, не нравится мое имя…
— Значит, Карлайл, — кивнула я. — Так этот твой брат...
— Эдвард.
— Пишешь ему?
— Нет, — он слегка откинулся на стуле, держа стаканчик с напитком в руках. — Нет, он даже не знает, что я здесь.
— В смысле… он не знает, в каком ты госпитале? — уточнила я.
— Не уверен, известно ли ему даже, что я в больнице. Последний раз, когда я что-то ему писал, был после приземления в Марокко.
— Это жестоко! — высказалась я строже, чем хотела. — Он может думать, что ты пропал без вести или мертв!
— Он так не подумает, — он покачал головой. — Если бы я пропал или умер, то ему отослали какой-нибудь документ. Уже раз было, когда я не писал ему. Он умный и не делает выводов без доказательств.
Я нахмурилась.
— И все же, как по мне, ты должен написать ему.
— Ты его не знаешь. Он слишком чувствителен для войны. Не создан для военной службы, ему не следует быть на какой-то ржавой лодке, патрулирующей острова. Будь он дома, то писал бы симфонии или баллетти
(п.п.: жанр вокальной многоголосной музыки, распространённый в Италии конца XVI — первой половины XVII веков). Я не могу сообщить ему… — он замолчал, и я потянулась вперед, накрывая его ладони своими. Такие теплые.
Поймала себя на этом и медленно убрала руки. Он наблюдал за мной. Я чувствовала его взгляд, хотя и не могла встретиться с ним.
— Нам надо возвращаться, — предложила я. — Тебе не следует так утомляться в свою первую прогулку по госпиталю.
Карлайл кивнул.
***
На пляже Анцио подрывали еще больше судов снабжения. Мы все еще не включали новости по радио. К тому времени в отделении пластической хирургии появилось несколько новых пациентов и более чем несколько в других. Все девочки превратились в перегруженных развалин. Молились каждую ночь, чтобы на следующий день появилась толпа медсестер, которые сделают нашу работу. Молились каждое утро, чтобы мы смогли помочь каждому пациенту под нашей опекой. Изнурительное время.
В течение трех недель правая рука больного с койки номер тринадцать была привязана к правой стороне лица, чтобы новообразованную плоть смогли использовать с целью пересадки кожи для новой щеки. Это было неудобно и больно. Но с каждым днем он больше говорил и периодически улыбался. Думая, что я не обращаю внимания, он доставал бумагу с карандашом и садился за письмо. Правда, всегда выкидывал страницы. Но я знала, что настанет день, когда он их не выбросит.
Ребята за океаном пробивались в гавань Неаполя и с еще большим трудом пытались доставить грузы в аббатство Кассино. Элис нечасто получала письма от мужа. Пациенту с тринадцатой койки предстояла операция по изъятию тканей с живота для создания выстилки нового носа. Хрящ для него был взят между ребер. Это были болезненные и утомительные операции. Казалось, что они занимали слишком много времени.
Он несколько раз выходил вечерами, как мне рассказывала ночная медсестра. Получил разрешение у одного из врачей. Мимо палаты, магазина, больничных садов – прямо в гражданский мир. Я гордилась им. Слышала от кого-то, что мужчина сходил в кино, правда, зашел в зал, только когда погасили свет, а вышел до того, как его включили. Кто-то еще мне сообщил, что его видели за укромным столиком в тускло освещенном баре. Он заказал двойной бурбон, а после вернулся в госпиталь.
Но я все равно гордилась им.
Пока пути снабжения и армия направлялись мимо Рима к Флоренции, хирурги начали гордиться работой, проделанной над его носом. Гордились, как его лицо стало вновь походить на лицо. Все шло отлично.
В один день я обнаружила его играющим в гольф на поле за госпиталем. Со спины, с сияющими под солнцем светлыми волосами и напряженными от каждого удара мускулами, он походил на оригинального золотистого призрака. Тень себя прошлого. Большая часть самого себя.
Должно быть, Карлайл почувствовал мой взгляд, потому что обернулся и предложил мне клюшку.
— Попробуешь сыграть? — спросил он, и звучал так легко. Наконец-то освободившийся из тюрьмы сомнений и страха, где держал себя все эти месяцы.
Я игриво покачала головой.
— Не хочу выставлять тебя в плохом свете.
— О. Так ты играешь?
— Немного. Отец увлекался спортом, я пошла в него в свои дикие девические годы. К большому его сожалению.
— Ты говоришь так, словно оставила свои дикие годы позади, — ответил он. — Пойдем посмотрим. Может, дашь мне пару советов по положению ног.
Сложно было проделать это в моей накрахмаленной униформе, но я взяла клюшку и сделала удар. Давно не тренировалась, но мне повезло. Мяч отправился в полет, словно я пыталась выиграть Мастерс.
(п.п.: один из четырех турниров серии мейджер по гольфу (эквивалент турниров «Большого шлема» в теннисе)) Он захохотал, но резко остановился.
— Что-то не так? — поинтересовалась я.
— Ничего, — печальней ответил он. — Бей еще.
Кинул мне мячик для гольфа из ведра рядом и ободряюще кивнул.
Поставив его на метку, я стукнула по мячику клюшкой. Может, я и не занималась, но в гольфе простаком не была.
— Когда я смеюсь, — начал мужчина осторожно, — это не так, как раньше. Ощущения другие. Звук другой, потому что мышцы этого лица растягиваются иначе.
— Станет легче. Со временем.
— Ресницы. Самое первое, помнишь? — он взял у меня клюшку и установил мячик для удара. — Они выглядят нормально для себя. Лучше, чем то, что было раньше. Но они никогда не будут похожи на ресницы других людей. Не смогут. У других ресницы, а у меня же отдельно приживленные к векам волосы. Чертовски много работы на это ушло, я уверен.
— Они хорошо прижились, — заметила я, это правда.
Раздался удар, когда он коснулся мяча клюшкой. Мужчина наблюдал за ним, ровно парящим в небе. С такой легкостью добился безупречной дуги. Отличный удар.
— Передай еще мячик.
Я кинула ему один.
— Они взяли кожу с живота, шеи и рук. У меня шрамы по всему телу, только чтобы я смог получить щеки и нос, теперь они начинают реконструкцию ушей, — несколько раз замахнувшись клюшкой, он прицелился к мячу. — А теперь подумай о моей правой щеке. Кожа там гладкая, хорошая. На нее можно смотреть. Но взята она с моей руки. Поверхность там отличается от лица. Она не создана для улыбок и смеха. Когда я улыбаюсь, это совершенно не так, как улыбки других людей…
— Это как когда
ты улыбаешься.
— Не совсем. Больше нет, — вздохнул Карлайл. — Моя улыбка раньше озаряла все лицо, глаза практически закрывались. Хотелось бы мне, чтобы ты ее увидела. Я бы улыбался тебе так каждый день.
Удар.
— Крученый получился, — сказала я.
Он подошел и встал рядом со мной, смотря на зеленое поле. Весну потихоньку сменяло очередное лето. Вскоре будет год с нашего знакомства.
— Когда я покину госпиталь, это будет, потому что они преуспели в том, чтобы дать мне
внешность, понимаешь? — сказал он тихо и осторожно, словно сообщая ужасную новость. — Оно никогда не будет двигаться, как настоящее лицо. Всегда будет выглядеть пластмассовым. Да, через десять лет станет лучше, но в наши дни пластическая хирургия ограничена. Не идеальна.
— Я знаю, как выглядят парни на выписке, — напомнила я.
— Чтобы ты не думала, что можешь выдержать, ты должна знать – это никогда не будет нормальным лицом.
Его рука была довольно близко. И я взяла ее в свою.
— Я чуть не забыла, зачем пришла сюда! — закатила я глаза сама на себя. — Привезли нового пациента. Положили сверху, он потерял зрение на один глаз, они хотят попытаться исправить это. Остановились на трех месяцах для глаза и восьми для пересадки кожи. Но Розали, ты знаешь Розали, да? Мы с ней работаем в одну смену, но всегда на разных этажах. Так вот, она сказала, что над ним словно туча сгустилась.
— Не говорит?
— Говорит и еще как. Его состояние отличается от твоего в момент твоего прибытия сюда. Этот парень ожесточен. Груб и жесток, — ответила я. — Таких мы быстро переубеждаем, знаешь. Легко держаться за злость или грусть, но жестокость? Это подвиг олимпийца. Ты должен хотеть делать это, и никто из нас не может переубедить его.
— И?
— Поговоришь с ним?
— Я? — он усмехнулся, и это затронуло старую кожу на левой стороне, отчего тонкий белый шрам показался в лучах солнца. — Я не очень подхожу на роль советчика.
— Я не прошу давать советов, просто поговорить. Тебе не нужно быть мудрым или оптимистичным, можешь оставаться таким же угрюмым и прямолинейным, как и обычно. Просто мне кажется, что ему пойдет на пользу разговор с тобой. Ему не нужно и половины операций, что были необходимы тебе вначале.
— Где он обгорел?
— Физически или географически?
— Оба.
— Что касается физического фактора, большая часть ожогов пришлась на грудь и шею, а также часть лица с нездоровым глазом. Рот в худшем состоянии, чем у тебя когда-либо был, но он сохранил оба уха и больше носа, по сравнению с тобой. По поводу географии, кажется, мне кто-то сказал, что он был в Новой Гвинее. Та еще поездочка до дома.
Он встал, раздумывая, его ладонь все еще была в моей.
— Как его зовут?
— Алек… Как-то там, — рассмеялась я. — Не могу вспомнить фамилию. Мне надо спросить Роуз.
— Я поговорю с ним.
***
Элис наконец-то получила письмо от мужа. Оно пришло из Нормандии и состояло из шести страниц. Нам вслух она ничего не зачитывала, просто сказала, что с ним все в порядке. Пациент с тринадцатой койки тоже получил письмо. От брата за океаном, который написал уже несколько писем, пытаясь его отыскать. Содержания этой переписки я тоже не знала, но подозревала, что там о хорошем.
Двадцать вторая и двадцать третья операции прошли. Вначале приживили хрящ, затем кожу, чтобы сделать одинаковую пару ушей. Он попросил меня сфотографироваться с ним, чтобы отправить снимок брату.
Я согласилась.
После этого Элис получила письмо из Парижа, когда части снабжения догнали войска.
Двадцать четвертая операция прошла успешно.
Следующее письмо лейтенант Уитлок отправил уже из-за немецкой границы. В день его прибытия Карлайл Каллен – пациент с койки номер тринадцать – отправился на двадцать пятую заключительную операцию.
Двадцать пять операций со времени Касабланки ноября 1942 года. Двадцать пять операций, чтобы дать мужчине лицо.
Оно было таким, каким он и сказал, и я знала, что так оно и будет. Лицо, полученное им, самое лучшее лицо, которое могла сделать команда врачей, было пластмассовым. У него не было такой же подвижности, как у среднестатистического человека, при первом взгляде – проходя мимо по улице или кинув взгляд краем глаза в баре – можно было сказать, что с ним что-то не так. Сразу и не понять, что именно. Возможно, вы спросите друга, почему он выглядит так странно, почему ни одна эмоция не кажется целой, почему щеки не приподнимаются до конца при улыбке.
В канун Нового года его выписали из Valley Forge General. Карлайл собрал свои вещи и несколько писем от брата, которые тот писал последние месяцы. Мне казалось странным, что скоро на тринадцатой койке будет новый больной.
К тому времени в госпитале было более трех тысяч человек. Пришлось построить новое кирпичное здание и коридоры с такими же деревянными панелями, чтобы убедиться, что новый персонал всегда будет теряться. Я же знала это место как свои пять пальцев. Как паутинку тонких белых шрамов на левой стороне лица мужчины.
Я проводила его на вокзал. Попрощаться или сказать ему единственную вещь, в которой была уверена с первой нашей встречи. Пока я еще не решила, что именно сделаю.
— Пятнадцать минут до отправления, — произнес он, билет был в одной руке, зеленая армейская сумка висела на плече. — Тут бар неподалеку. Уверен, что я тебе должен как минимум дюжину пива.
Я оглянулась через плечо в сторону бара, все еще пытаясь решиться, что сказать.
— Ну же, — он повернул меня в сторону заведения, подталкивая за плечи. — Я теперь гражданский. Тебе позволено пойти со мной.
— Хорошо. Хорошо, — сдалась я. Довольно легко.
Мы сели за круглый столик у окна и заказали по пиву. Бармен слишком долго смотрел на моего компаньона, но тот уже к такому привык. И не возражал. Так вели себя люди – он получил столько пощечин, что они уже больше не жгли.
Когда остались только мы, он откашлялся и заговорил. Казалось, речь была подготовлена и началась она так:
— Мне особо нечего предложить. Когда я вернусь в Сиэтл, мне придется пойти на курсы перед тем, как смогу вернуться к практике. И даже тогда в Сиэтле очень много докторов, и у большинства внешность подходит для общения с пациентами. Мне надо будет найти квартиру, она не будет большой…
— Для этого есть пособия для ветеранов, — ответила я, пожав плечами.
— Ты умная красивая девушка. Неужели не видишь этого? Тебе достаточно ткнуть в любого мужчину, и он будет твоим.
Подтверждая его слова, я указала на него.
— Ты можешь лучше, — произнес он, но его уверенность в том, что он делал так, как считал правильным для меня, уходила. — Я могу писать тебе? Может быть, через шесть месяцев или около того я буду лучше понимать, как идут дела. Может, тогда…
— Может, тогда ты позовешь меня замуж?
Он отвернулся, неуверенный в себе. Будет сложно. Люди, идущие по жизни, принимая решения в угоду другим, женщины, выбирающие мужчину по тому, кем он
мог бы стать, а не кто он есть сейчас, никогда не бывают полностью счастливы.
Да, мы не будем самыми богатыми в мире людьми. Да, возможно, ему придется провести несколько лет в колледже, а потом какое-то время работая там, где его талант не будут ценить по достоинству. Может, нам придется переехать в сельскую местность, я буду работать его медсестрой, пока он будет лечить фермеров, которые не смогут расплатиться сразу. Может, мы будем ругаться больше, чем хотелось бы, возможно, будут дни, когда Карлайл будет хотеть только одного - сидеть в кресле и пить, пока не забудет, что случилось с его лицом.
Ничего не идеально.
Ничего и не должно быть идеальным.
— Почему не позовешь сейчас? — наконец сказала я.
— Что ты имеешь в виду?
— Через шесть месяцев ты сделаешь мне предложение. Я скажу «да». У меня уже было два года, чтобы решить, смогу или нет терпеть тебя, и я уверена, что смогу. По правде говоря, мне это вроде как даже нравится, одно из моих любимых занятий. Так что можешь просто позвать сейчас.
Он улыбнулся, сбитый с толку. Эти голубые, словно стекло, глаза светились магией, накладывая заклятье и отнимая все мысли о ссорах, какие у меня были. Пока он будет мужчиной за этими глазами, я, скорее всего, буду прощать его быстрее, чем было бы положено.
— У меня нет кольца, — возразил он.
— Я не люблю кольца. Я ведь медсестра и все равно не могу их носить.
— Ты уверена?
— Ой, да ради всего святого! — я закатила глаза и посмотрела на него в упор. — Карлайл Каллен, окажешь ли ты мне честь когда-нибудь – и очень скоро, потому что я уже начинаю сгорать тут от нетерпения – стать моим законным супругом? В конце концов, я люблю тебя. И заслуживаю хотя бы этого.
— А тебе палец в рот не клади, — произнес он задумчиво.
— Нет.
— Ладно, я буду твоим мужем, если ты будешь моей женой, — наконец согласился он. — Но людям на вечеринках будем говорить, что предложение сделал я.
— Ты и твоя гордость, — улыбнулась я ему, потому что этот мужчина делал меня такой счастливой. И сказала: — Договорились.
Затем наклонилась через стол и поцеловала его.
Очень приятный поцелуй. Один из моих любимых.
Годы спустя он скажет мне, что при первых операциях, сразу после взрыва, когда он все еще был в Северной Африке, доктора говорили, как ему повезло, что рот несильно повредило. Тогда это не казалось большой удачей, просто сухой факт после инцидента. Едва ли рука судьбы. Но, по его словам, после того поцелуя он больше не сомневался в своем везении.
В итоге я не могла ждать шесть месяцев. Подала заявление на увольнение в Valley Forge General, провела инструктаж своей замены и отправилась в Сиэтл. Я приехала как раз ко Дню всех влюбленных, так что поженились мы четырнадцатого февраля в маленьком офисе клерка в мэрии в перерыве между занятиями Карлайла. И это было правильно.
Так любите ли вы мужчину за его лицо?
Думаю, да. Ведь не будь лица моего мужа, я никогда не влюбилась бы в него.
Перевод ButterCup Редактор tatyana-gr




































































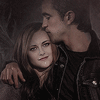

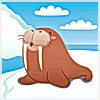 ...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в
...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в 











