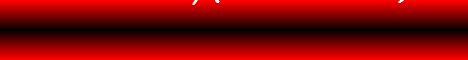Kapitel 20. Five Elephant
Teil 1. Zigarettenglut
«Five Elephant Roastery» — кофейня, ремесленная пекарня и небольшая группа берлинских кафе, расположенных в самом сердце столицы Германии. Zigarettenglut - ожог от сигареты Мы выходим на веранду. Тепло дома, казавшееся мне данностью, сменяется резким, морозным воздухом улицы. Метет снег, высятся холмами сугробы, беззвездное небо чернеет до самого горизонта – и обрывается в скалистый океан. Туманная дымка витает над вековыми елями. И тускло мерцает парочка фонарей вдоль забора. На бетонную стену с вечнозелеными растениями стараюсь и вовсе не смотреть – жутко.
Эдвард, пропустив меня вперед, закрывает за нами дверь. Она негромко хлопает – и больше ни единого звука не слышно. Потрясающая, оглушающая тишина. И бесконечный каскад снежинок.
- Ты не замерзнешь, Schönheit?
Я запахиваю полы пальто, скрестив руки на груди. На веранде безветренно – справлюсь. К тому же, наверху спят мальчики и наш разговор – последнее, что им сегодня нужно. Чтобы пережить завтрашний день всем понадобятся силы. И здоровый, пусть хоть и отчасти, сон.
- Мне пока не холодно.
Я оглядываюсь на Сокола не так решительно, как хотела бы, но он делает вид, что не замечает. Глубоко вздыхает, сам себя успокаивая. Что-что, а спокойствие нам только снится.
- Ладно.
Острый край месяца, закрытый тяжелыми, кустистыми тучами, изредка показывается из-под их покрывала. Серебрится на возвышенности у леса вездесущий снег. Покачиваются, будто вибрируя, верхушки елей. Эдвард достает из кармана пачку сигарет.
Я почти уверена, что он закурит. Держит пачку в руках, крепко сжав ее картонные бока, ловко выуживает одну сигарету, белую, приметную. Щелкает в темноте, резко вспыхнув, огонек зажигалки. Но слишком далеко.
Я ловлю себя на мысли, что наблюдаю за каждым действием Эдварда, даже самым незаметным. И он замечает мой взгляд. Пару секунд подумав, разжимает пальцы. Убирает зажигалку в карман, а сигарету, со всей силы замахнувшись, вдруг кидает далеко в снег. Она совсем не слышно в нем тонет.
- Извини, Белла. К чертовой матери это все.
Мягко, благодарно ему улыбаюсь.
- Спасибо тебе.
Эдвард немного расслабляется, качает мне головой. Он опирается плечом на одну из несущих балок веранды. Темное дерево практически не контрастирует с черной материей пальто, а вот с белой кожей – очень даже. Каллен напряженно вглядывается в темную, стертую линию горизонта.
- Я не понимаю, что он делает, Изза. Тревор.
- Я уверена, всему этому есть какое-то объяснение.
- Ты всегда в нем уверена. Это довольно-таки самонадеянно.
Мы перешагнули тот запал, с которым Falke вернулся домой минут двадцать назад. По крайней мере, он приглушил его силу. Я знаю, что Эдвард зол. Его злость прекрасно ощутима и понятна, это как что-то невидимое, но очевидное для меня. Глубокое и тревожное, тлеющее в глубине синего взгляда. Но сегодня это не просто злость, не гнев даже. Это отчаянье, бессилие, праведный ужас. Что-то похожее я уже наблюдала у Фабиана... мне оно знакомо.
- У тебя очень умный сын, Эдвард. Тревор бывает импульсивен, не любит правила... но Эдвард, он видит границы. Он их не переступает.
- До сих пор?..
Я приникаю к его плечу, подступив ближе. Не глядя на мороз, от Coкола по прежнему веет живым, обжигающим теплом. Его запах, глубокое дыхание, его поза – все это придает мне сил и странной, кончиками пальцев ощутимой решимости. Я часто чувствую себя сильнее в обществе Эдварда. Особенно если речь идет о нем или его детях.
- Расскажи мне еще раз, пожалуйста, - тихонько прошу, погладив по руке. Ласково, осторожно целую его шею, где чуть оголяет кожу невысокий ворот. – Давай начнем с самого начала. Что там с дилерским центром?
Эдвард опускает плечи, когда меня чувствует. Не так ровно держит спину, дышит тише, спокойнее.
- Уклонение от уплаты налогов, вопросы к дистрибьютору по растаможке премиум-авто... ничего сверхординарного, юридический отдел справится.
- Мне казалось, тебя это беспокоило.
- Мне описали ситуацию как мафиозную вендетту, - хмуро поясняет, поморщившись. Поднимает голову, легко коснувшись подбородком моих волос. – На деле совсем не страшно.
- Это хорошие новости.
- Сносные, - поправляет он, поджав губы. Напряженная линия челюсти заметна лучше всего. – А потом...
- Что было потом?
- Тимотей из нашего полицейского управления... он позвонил, когда я уже возвращался. И сказал про Фаба.
- Он знает, что Фабиан общается с Сибель?..
- Фабиан оставил его дочку из-за Сибель. Падма, помнишь? Что работает у Джоуи.
- Он говорил, что они расстались, да... давно.
- Не так уж давно. Но не суть.
- Но разве это допустимо? Чтобы полиция предупреждала, а не... еще и так поздно? Сегодня?
- Он сделал мне одолжение, Изза. Тимотей. Я был его гарантом на суде, по поводу опеки над дочерью... он решил помочь моему сыну. Дал нам время.
- Это все он рассказал? Про обыск, препараты и... Тревора?
Эдвард кивает. Лицо его строгое, суровое даже. А вот взгляд – потерянный донельзя. И снова пробивается через корку гнева это глубокое отчаянье.
Так.
- Мы точно не знаем, что произошло, Эдвард. Только Тревор может рассказать.
Он так смотрит на меня после этих слов... снисходительно и горько. Слишком горько, недоверчиво. Невесело усмехается.
- Я прекрасно знаю, что он скажет. И ты тоже, Изза, не обманывай себя.
- Не правда. Ни ты, ни тем более я мысли читать не умеем, - уговариваю его, но Каллен делает такой вид, будто убеждаю я саму себя. – Что? Разве не так?
- Нет. Он будет выгораживать ее до последнего. Как он всегда и делал.
- Ты преувеличиваешь...
- Я преуменьшаю. И с этим пора заканчивать.
Мне кажется, Эдвард прекрасно знает, что собирается делать дальше. И убежден в каждом свое слове, каждом решении, которое вскоре воплотит в жизнь. И все же, злость его – явление непостоянное. С взрывным, холерическим характером Каллена ее приступ просто нужно пережить – нам всем нужно. И есть шанс, что он поступит здраво. Или хотя бы выслушает другую точку зрения.
Я сдерживаю себя. Не повышаю голос, не доказываю свою правоту. Но смотрю на Эдварда, не отпуская его взгляд, испытующе. И очень серьезно.
- Тебе нужно выслушать Фабиана, Falke. Обязательно.
- Мне нужно его оправдать, - качает головой, не давая мне и шанса. – Он гробит свое будущее с поразительной отвагой. А эта девочка не вспомнит о нем уже через месяц, если сядет за нее в тюрьму.
- Все не так.
- Я же говорю, ты слишком в нем уверена. Я тоже этим грешил. И демократия Террен... вот он, итог, пожалуйста! Не так радужно и чисто, правда?!
Он распаляется, глянув и на забор, и на бетонную стену, и на фонарики веранды с ничем не прикрытой яростью. Краснеет его кожа и едва заметно подрагивают обе ладони. Эдвард тормозит свои эмоции на полном их ходу, не дает себе вспыхнуть, призывая на помощь весь здравый разум. Не кричит. И я горжусь им – это дорогого стоит, нам нужна трезвость, чтобы выбраться из темноты этой ночи. И все же, взглянув на лесенку крыльца и доски пола, я рада, что мы вышли на улицу. Во-первых, холод сам по себе отрезвляет, а во-вторых, дети нас точно не услышат.
- Когда я выясню, кто его надоумил или принудил, кто посмел только... не знаю, Изза. Я не знаю, что будет. Ничего хорошего.
Я стараюсь не заострять внимание на слове «принудил». Это позже. Но словам Эдвард нельзя не поверить, он прав, он не бросает их на ветер. Им действительно не поздоровится, если Сибель или ее мать как-то к этому причастны. Это важно и влияет на жизнь Фабиана, на его свободу, выбор... но черт подери, не так, как то, что уже случилось. Помощь прежде всего нужна психике Тревора. Папа должен выслушать его... и не только о наркотиках. Лишь бы они смогли поговорить доверительно, боже.
- Эдвард, - выдыхаю его имя, сильнее приникнув к плечу. Глажу его руку, мягко придержав его пальцы в своей ладони. Уговариваю, убеждаю, прошу. – Тише. Подожди. Тише.
Я вздыхаю, успокаивая этим вздохом сама себя. Морщусь от света фонариков и чересчур белого снега, и прячусь в темной, жесткой материи пальто. Его запах помогает мне прийти в себя – сандала, свежести и знакомого геля для стирки.
- Ох, Изабелла!..
Он до белизны сжимает губы, зажмурившись на пару секунд. Медленно выдыхает из легких весь воздух. И вдыхает снова. Поднимает руку, привлекая меня к себе в полноценные объятья. Касается губами волос, закрывает глаза, вздыхает. И еще раз. И еще.
- Тревор доверяет тебе больше всех, - пользуюсь моментом, когда так очевидно меня слушает, бережно коснувшись его щеки. Эдвард и бровью не ведет. – Ты ведь его папа, кому он может открыться, как не тебе? Кому он так поверит? Но ему важно знать, что ты выслушаешь.
- Вера – такое растяжимое понятие.
- Посмотри на меня, Эдвард, пожалуйста.
Он нехотя, медленно открывает глаза.
- Прежде всего выслушай Тревора. Его версию. Может быть есть еще что-то, что он захочет сказать. Прошу, слышишь меня?
Сокол хмурится, что этой ночью добавляет его чертам не меньше пяти лет. Тревожно оглядывает мое лицо, старается понять, о чем я говорю.
- Ты что-то знаешь? Он тебе в чем-то признался?
- Фабиан хочет в чем-то признаться тебе. Это все, что я поняла.
И уклончиво, и осторожно, и полно. Я не отказываюсь от его прямого взгляда и Эдвард смотрит на меня еще пару секунд, будто проверяя искренность ответа. Мне больно и отвратительно лгать ему, но сегодня, уповаю, последний день этой лжи. Просто, чтобы завтра Фабиан со всем покончил разом.
- Белла, - баритон звучит крайне серьезно, а синева глаз пугающе мерцает. Вдоль моего позвоночника, едва ощутимо, проходит краткая дрожь. – Я приму многое, но не ложь. Только не о моих детях. Ты понимаешь?
- Вполне. Аккуратнее, пожалуйста, - закусываю губу, когда уж очень ощутимо касается моей талии. Немного выгибаюсь в его руках, неровно выдохнув. Эдвард поспешно убирает руку. Из его взгляда этот страшный блеск пропадает, остается только смущение. Баритон теперь звучит раскаянно.
- Извини.
Вроде бы он поверил. Вроде бы. Хорошо.
- Ну что ты.
С минуту, наверное, мы оба молчим. Летят вниз остроугольные, ледяные снежинки. Эдвард наблюдает за ними, как в последний раз. В чертах его бесконечная, безграничная тоска. И множество безответных вопросов.
- Смешно ли, Изза, но Террен говорила мне, клялась даже, что с детьми все в порядке. Казусы Гийома, периодические дурные сновидения, тайные свидания Фаба с моей кредиткой – не больше. Я был уверен, что я их не упускаю. Боги. Да я полжизни пропустил, если полиция окажется права!
- Не все можно предотвратить контролем, Эдвард. И не все можно предсказать.
- Это дети, Schönheit, - выделяя второе слово, хрипло произносит он. Хмурится больше прежнего. – Детей мы обязаны контролировать и направлять. Можно поиграть в доверие, сделать вид, что ослабили поводья, дать какую-то иллюзорную независимость... но Белла, это все не более, чем игра. Пока они не станут взрослыми людьми в полном смысле этого слова.
- Фабиан очень хороший. Он правильный, верный и чуткий. У него огромное сердце. Тебе нужно ему поверить.
- Как раз-таки «огромное» сердце и правильные установки первыми попадают под удар. Такие парни – самые доверчивые. И этим неприминут воспользоваться.
- Я не знаю, откровенен ли Тревор с матерью так, как с тобой. Я вижу это каждый день, когда вы вместе. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не предавай его доверие. Если ты пойдешь войной на Сибель... Эдвард, не хмурься, не кричи только... если ты это сделаешь – будет очень сложно снова с ним заговорить.
Мужчина сдерживается из последних сил. И я тоже. Потому что хочу куда больше, куда громче и понятнее донести до Эдварда, что он рушит их с сыном хрупкое понимание. Фабиан боится до панической атаки причинить папе боль или зло. А Эдвард считает, что болью он Тревора излечит, предотвратит куда большую боль, остановит замкнутый круг. Он правда не понимает – или не хочет понимать – что Сибель значит для Фаба.
- С твоих слов поверишь, что в этой девочке – его душа, - мрачно заключает Falke.
Я невесело усмехаюсь. Фабиан точно такую же фразу мне и сказал, так и описал их отношения.
- Отдушина, - уточняю, погладив руки Эдварда в своих. – И ты понимаешь, что это такое.
- Я говорил тебе, что не хочу слышать, как ты ее защищаешь, - тихо, хмуро чеканит мужчина. – Это больше не игра в «Ромео и Джульетту», она тянет его на реальный срок. Она с матерью будет отвечать в этот раз. Не мой сын.
- Не факт, что она вообще обо всем этом знала.
- Я не верю этому ни секунды. Вот увидишь, она его еще и уговаривала. Шантажировала, не меньше.
- Почему ты так ее демонизируешь?..
- Она не овечка на заклании, Изза. Ты видела ее один раз, я знаю ее уже почти восемь месяцев. Не обманывайся скромным взглядом.
- Ты упрямо отказываешься верить, что они все еще дети, да? Сам же говорил, что нуждаются в направлении и защите, Эдвард.
Он жестко улыбается – не улыбка это вовсе, почти оскал. Предупреждающим огоньком переливаются глаза. Эдвард с особым чувством произносит следующую фразу.
- Слава богу, она не моя дочь – и никогда ей не станет. На этот раз все закончится.
Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ничего.
Нам просто нужно отдохнуть. Очень нужно. Мне.
Я останавливаю сама себя, поругав мысленно, что поддалась на продолжение обсуждений. Не то, чтобы я не понимаю, какая реальная угроза нависла над Фабианом. Но я знаю, что он уже давным-давно роет себе могилу сам – мыслями, паникой и ужасом, запрятанным глубоко в душу. Если он не сможет открыться отцу, все закончится. И никакая Сибель, тюремная угроза или умные, мудрые родители ему не помогут. Он сам себя убьет.
- Ты учил меня, что сперва надо решить проблему, а только потом ее обсуждать. И делать выводы тоже надо позже. Сначала вы просто поговорите.
Эдвард вздергивает голову. Синие глаза так и пылают, но в уголках они влажные. Сам себя отвлекая, сдерживая, Эдвард потирает пояс моего пальто между пальцами. Методично, но быстро.
- Ты понимаешь, что это трата времени? Пока мы будем вести откровенные разговоры, сюда явится полиция.
- С утра еще будет время, - настаиваю я. Хотя не знаю, есть ли у меня хоть какое-то право, возможность так настаивать. – Он не спал две ночи, сам сказал мне. Его что-то очень тревожит. Это плохо кончится, если вы не поговорите.
- Черта с два это плохо кончится! Я не позволю.
- Я понимаю. Но ночью ты ничего не исправишь. А если не поспишь, то и утром – тоже. Физически. Вам обоим нужно отдохнуть. После всплеска адреналина всегда следует его спад.
- Ты же мой биолог, Изза, - цедит Каллен. Резко выдыхает и недоверчиво прищуривается. Впрочем, пропадает из его глаз этот сумасшедший блеск. - Считаешь, так легко уснешь?
Он спрашивает это риторически, еще немного зло. И все же чувствую, что Эдвард меня слушает. Играет здесь роль то, что на часах половина первого ночи, а может, насыщенный событиями вечер и вполне себе ощутимая усталость... или наша близость, полумрак, запах еловых лапок... не знаю. Не так много у Эдварда сил, чтобы воевать с Фабианом, Сибель, мной или самим собой сегодня. Тайм-аут.
- Не знаю. Но точно знаю, что хочу в постель. С тобой. Bitte.
В синих глазах Falke утихает гнев. По крайней мере, заметно сникает, смягчается. Сокол сострадательно, осторожно гладит пальцами мою щеку. Убирает с нее прядку волос, согревает кожу.
- Ты устала, Schönheit.
- Очень. Пожалуйста, давай сегодня просто пойдем спать...
Мужчина смотрит на меня проникновенно. И нежно, и доверительно, и как-то... смятенно. Этим вечером они с Фабианом просто друг друга зеркалят – если бы я не так устала, то удивилась бы. Две половины одного целого они с Эдвардом. От этого и все... от этого – и всё, что случилось.
- Ладно. Может быть, ты и права.
Я благодарно ему улыбаюсь, крепко обняв за шею. Целую и линию челюсти, и щеку, еще немного придержав рядом. А потом отпускаю, когда открывает нам дверь в дом. Снег и тиски мороза остаются по ту сторону от входа, а мы возвращаемся в прихожую. Здесь горит неяркими праздничными огоньками наша елка. И пахнет моим зеленым чаем.
Я ничего не трогаю – ни елки, ни чашки, ни вещей Гийомки на журнальном столике. Не верится, будто праздничный вечер у Калленов был сегодня. Возвращается пропавшая усталость. На мгновенье мне кажется, что даже до кровати не дойду, просто не сумею.
Сокол обвивает мою руку, некрепко пожав пальцы.
- Пойдем?
- Пойдем.
На лестницу я смотрю и решительно, и тревожно. Впрочем, чувствую спиной Эдварда, когда поднимаюсь. И знаю, что ни оступиться, ни упасть он мне не даст – это облегчает ситуацию.
- И зачем тебе такие высокие ступени?.. – шепотом возмущаюсь я, когда Эдвард пропускает меня в спальню. В комнате тепло, пахнет свежестью и нами. Приоткрыта дверь в ванную.
Не глядя на все события этой ночи, я Каллена немного, а веселю. Он вздыхает.
- Мне кажется, ты просто хочешь спать, Sonne.
- Тебе не кажется. Пойдешь в душ первым?
Эдвард с сомнением посматривает в мою сторону.
- А ты справишься без меня пару минут?
- Я справлялась без тебя полтора часа, - потягиваюсь, устало выдохнув. Но улыбаюсь ему, не даю поводов для беспокойства, нет их, если сравнивать с Фабианом. – Давай, Falke. Иди.
Он вздыхает, но не спорит со мной. Видит, что это не имеет смысла и лишь потратит наше время.
- Только аккуратно, Изза. Я быстро.
Он так и не закрывает дверь ванной, я хорошо слышу шум воды. А Эдвард, как и тогда, в Шарлоттенбурге, надеется контролировать происходящее в комнате.
Я сажусь на простыни постели и некоторое время попросту смотрю на них с излишним вниманием. А потом на снег, на океан, на лес. А потом – на комод с пижамой. Не могу заставить себя встать с постели, чтобы достать одежду для сна. Ощущаю себя пластилиновой, до невозможности, до ужаса уставшей. Она наваливается снежным комом, эта усталость, никуда от нее не спрятаться.
Эдвард возвращается в комнату через десять минут. Уже в домашней одежде, находу вытирая волосы синим полотенцем. И я нехотя плетусь в ванную.
- Тебе нужна помощь?
- Да. Согрей мне постель, пожалуйста.
Дверь тоже не запираю, не тревожу Эдварда понапрасну. Смотрю на свое отражение в зеркале с минуту, раздумывая, что делать. Понимаю, что сил на душ может попросту не хватить, но очень хочу смыть с себя этот день. И пару минут все же стою под горячими струями, заставив себя войти в душевую кабинку. Заворачиваюсь в махровое пурпурное полотенце, приникаю к стене ванной. Пижаму я из комода так и не достала.
Эдвард, выполняя мою просьбу, полулежит на кровати, когда я возвращаюсь обратно. Он снова кажется мне хмурым, задумчивым и чересчур тихим. И все же, при виде меня оттаивает. Пропадает эта скованность и мрак из его глаз. Эдвард дает себе ненадолго забыть о случившемся.
- Очередной протест, Schönheit? – вкрадчиво зовет его голос.
- Против комодов, - бормочу, недоуменно высматривая свою пижаму среди другой одежды. И лишь когда Эдвард подходит ближе и открывает для меня следующую полку, понимаю, что все это время искала свою пижаму в его белье. Черт.
- Давай-ка, - призывно зовет, выуживая на свет божий мою многострадальную одежду для сна. Бережно придерживает рукава сорочки, когда надеваю ее. Поправляет ткань на талии, чтобы не мешала. Мягко целует мой лоб. – Да, тебе правда пора в постель.
- И тебе...
- И мне, еще бы, - вздыхает, закрывая обе полки. Идет за мной следом до самой кровати, проследив, чтобы я легла первой. Снова вздыхает, уже не так устало. Забирается под одеяло, тут же притянув меня к себе. Будто бы я возражала.
- Ох, ну наконец-то...
Эдвард тихонько смеется. Обнимает меня крепче, тепло целуя лоб – много, много раз.
- Да уж, Sonne.
Я обвиваюсь вокруг него, к чертям послав и наши разговоры, и недомолвки, и даже упоминания Сибель и наркотиков. Не до них сейчас. Фабиан, наконец, спит в своей постели за эти долгие двое суток, Гийом, уткнувшись в одеяло, видит рождественские сны. И мой Эдвард здесь. Невозможный, отчаянный мой Сокол, с которым так невыносимо спорить и без которого так неуютно спать. Это моя победа, что мы оба сейчас в постели. И до утра никто и ничего делать не станет.
Мне кажется, Эдвард еще раздумывает, какой шаг будет верным. Стоит ли говорить с Фабианом сейчас, стоит ли звонить адвокатам, стоит ли... не знаю, как его мыслительный поток остановить. Я его просто физически чувствую.
- Я отказываюсь спать без тебя, - шепчу ему, многозначительно закинув ногу на бедро и прижавшись всем телом. Отвлекаю. – Утра вечера мудренее.
Одеяло прохладное, как и простыни, как и наши наволочки. А Эдвард до безумия теплый, я не перестаю удивляться.
- Я это уже запомнил, - признается мне, неявно усмехнувшись. – Я тут, солнышко. Я всегда тут, как бы там не было. Natta. Засыпай.
Ну вот и хорошо. Поверю, что хорошо, и мы обошлись малой кровью. До утра.
- Natta, Falke.
* * *
Огни рождественской елки переливаются мягким желтым светом. За окном тихая ночь уже наступившего праздника, а в гостиной потрясающе пахнет глинтвейном, еловыми лапками и... нами. Это такой живой, простой, едва уловимый аромат... дома. Я тронуто смотрю на эту маленькую идиллию, только нашу сегодня, никак не решаясь полноценно в нее окунуться. Так и стою у арки гостиной, приникнув к деревянным перилам лестницы.
Эдвард выходит из кухни и очаровательно мне улыбается. В его бархатном, теплом тоне самое настоящее веселье – такое светлое и искреннее, что нельзя не прочувствовать.
- Кто это там прячется, Schönheit?
Сокол в принципе почти что светится. Мы переодеваемся в пижамы, как в старом праздничном фильме. Он колдует на кухне, включив негромкую рождественскую музыку. И призывно машет мне, принося в комнату две чашки-сапожка.
- Проходи, Liebe. Или глинтвейн тоже будем пить на лестнице?
Я смеюсь, оставляя место простого наблюдателя. Эдвард так привлекательно смотрится на фоне заснеженных окон и неярких гирлянд. Атмосфера просто волшебная: эта музыка, полумрак, потрясающий аромат глинтвейна... нет, на лестнице – не вариант. Не сегодня. Я хочу у нашей елки.
- Ну вот! – победно восклицает мужчина, когда я все-таки захожу в гостиную. – Эх, ласточки, так и норовят упорхнуть!
Он притягивает к себе, бережно, но крепко обнимая. Целомудренно целует мои губы. Посмеивается, когда отвечаю ему.
- Не дождешься, Falke.
Я обвиваю за талию, касаюсь шеи, привстаю на цыпочки. И следующий поцелуй уже не такой невинный.
- Вот она, моя девочка! - гордо парирует Сокол, смешливо вздернув подбородок. На его щеках эти очаровательные ямочки, искрятся радостью синие глаза, чуть подрагивают от смеха ресницы. И нет ни горечи, ни боли, ни сомнений. Ничего сегодня нет. Это наше первое Рождество вместе!
- Я думала, празднество окончено...
- Ты что, Изза! Да оно только начинается!
Мне нравится такое его настроение. До безумия, до дрожи просто нравится. Эдвард умеет заражать своей энергией, оптимизмом и улыбкой. Я чувствую его каждой клеточкой, я понимаю его настрой до последней ноты, я... я просто не знаю, как это все описать. Какое-то ненормальное, безудержное, парящее счастье. Просто от того, где мы сейчас. И что мы вместе.
- Пойдем к елке, - прошу его, пожав ладонь в своей.
Эдвард усмехается.
- Кому-то натерпится получить подарки?
- Кому-то не терпится оценить глинтвейн, - смеюсь в ответ, уже не просительно, а вполне очевидно увлекая его к нашему рождественскому дереву. Хорошо, что он нашел такое большое. Эта елка – предел моих детских мечтаний о праздничном вечере. Еще одно сбывшееся по воле Эдварда желание. Я сбилась со счета.
- Это – не глинтвейн, - серьезно заявляет мистер Каллен, оглянувшись на две чашки-сапожка, ожидающие на журнальном столике. Витиевато кружится над ними пар, приметнее становится пряный запах. Это те самые кружки, что мы забрали с портлендской ярмарки, отказавшись от залога. Вот и нашлось им применение.
- А что?
- Зелье, - его синий взгляд задорно блестит, не оставляя внутри ничего, кроме теплой, яркой радости, как у ребенка, ей богу. – Попробуешь – и никогда больше со мной не расстанешься.
- Думаешь, мне еще нужно приворотное зелье, Эдвард?
- Не помешает.
- Ты как дитя, Эдвард, - я ласково ерошу его волосы, крепче прижав к себе. Целую те самые ямочки на щеках, которыми не могу сегодня налюбоваться.
Он расцветает, мой Сокол. Так и лучится счастьем.
- Мальчишка, - согласно фыркает, утягивая меня к елке. Пол возле нее сегодня не пустует, там заботливо расстелен плед с нашей постели, а диванные подушки в произвольном порядке брошены на его поверхность.
Эдвард без какого-либо предупреждения обвивает мою талию, притянув совсем близко к себе. А в следующую секунду, хохоча, опрокидывает нас обоих на эти светлые подушки, прямо в их гущу. Не успеваю испугаться, а все равно вскрикиваю. Через мгновенье уже уворачиваюсь от его рук, когда меня щекочет.
- Ты что, Эдвард!
- А ну-ка, Schönheit, - веселится, отыскивая меня среди подушек, - кто это от меня сбегает? Кто боится щекотки?
- Falke-e-e, - протяжно, уже с трудом дыша, прошу я. Как могу уворачиваюсь от его пальцев, задыхаясь. – Останешься без подарков! Их будет некому дарить!
- Да, что ты говоришь? – хохочет, притягивая меня ближе. Всегда безошибочно предугадывая, куда дернусь, отыскивает, достает, забирает обратно себе. Эдвард, как король из сказок, всегда получает то, что хочет. А хочет он меня.
И все же, король милостив. Обнимает меня, уже без щекотки, ласково прижав к груди. Гладит волосы, путается пальцами в прядях, целует лоб у их линии. В уголках глаз чувствую слезы, но добрые, от смеха. Эдвард очень нежно смотрит на меня из-под длинных, черных ресниц, бережно вытирая эту влагу. Любовь в нем так и мерцает – как огоньки гирлянды.
- Ich Liebe dich, Schatz.
- Я – больше, - выдыхаю, с удовольствием приникнув к его плечу. Успокаиваюсь, с удобством устроившись на подушках. Эдвард дает нам сполна прочувствовать атмосферу, никуда не торопит. Внезапное громкое веселье сменяется счастливой, пронзительной тишиной. Рождественской.
- Зелье остывает, - заговорщицки шепчет мне на ухо Сокол через какое-то время. Выбирается из объятий, резво поднявшись на ноги. На нем красные клетчатые штаны с забавными разноцветными шнурками и бордовая кофта с зелеными полосками. Само воплощение рождественского эльфа, а не Эдвард. Я его еще таким не видела.
- Не пролей только, - улыбаюсь, когда несет к нам два собственноручно приготовленных напитка.
- Еще чего!
Он дает мне подержать кружки, пока садится рядом, на прежнее место. Поднимает руку, когда обнимаю его, полулежа устроившись на подушках. Идеально.
Я с интересом пробую глинтвейн.
- Очень вкусно.
- Конечно. Это же я готовил.
- Эдвард! – смеюсь, игриво хлопнув его по руке. Сокол целует мои волосы, усмехнувшись в ответ. Обещает не быть слишком гордым. Я шучу, что уже не получится. Эдвард согласен – у него ведь есть я.
- Зелье приворотное или это ты такой обольститель, Эдвард?
- Одно другого не исключает, - мудро произносит он.
Глинтвейн и правда хорош. Он на виноградном соке, как мы уже привыкли, но пряности здесь немного другие, чем были в Берлине. Я точно чувствую гвоздику и корицу, немного – апельсин, но без цитрусов нам в принципе никуда, а еще... сахар? Кажется, тростников, не белый. И что-то еще из специй.
Пустые чашки на кухню относит Эдвард. И глубоким, воодушевленным тоном объявляет сразу, как возвращается.
- Теперь – подарки.
Я чувствую себя ребенком, когда он так говорит. Это приятное чувство какого-то дикого, искреннего нетерпения. И ожидания. И радости. И смеха. И любви. Любовь я сегодня чувствую в каждой его улыбке.
Мы садимся друг напротив друга рядом с рождественским деревом. И я, и Эдвард еще утром оставили разноцветные коробки под елью. Я рада, что мы играем по немецким правилам, вскрывая подарки сегодняшним вечером. И что упаковали их, придав атмосфере больший колорит. Это не сухие поздравления в духе «возьми и забудем», это – настоящий праздник. Я бесконечно ценю такие моменты.
- Что будешь открывать первым? – выжидательно наблюдая за мной, зовет Эдвард. Мне нравится это мальчишеское выражение на его лице, этот непрекращающийся запал оптимизма. Побольше бы нам таких моментов.
Подумав, забираю себе самую большую коробку с зеленым бантиком. Falke довольно щурится.
Я аккуратно распускаю ленту, придержав ее края. А вот упаковочную бумагу разрываю быстро и весело, не заботясь об осторожности. Внутри – лист крафтовой бумаги, что прикрывает содержимое. Я не оставляю времени на догадки, сразу его снимаю.
Темно-синий комплект белья с кротким ореолом цветочных кружев и длинным, узким вырезом на груди. Напоминает боди, но лишь формально соответствует его описанию. Красивый, изысканный ворот маскирует черную застежку у основания шеи. И чашечки лифа почти прозрачные, их держат лишь кружева. Безумно красиво.
Поднимаю на Эдварда глаза. Он терпеливо ждет хоть какой-то моей реакции.
- Ты что это?..
- Я помню, что должен тебе комбинацию, Schönheit, - мягко улыбается, еще толком не понимая, нравится мне или нет, не слишком ли это. – Что скажешь?
- Ты очень плохой мальчик, Эдвард.
Он удивленно смеется, вряд ли ожидая от меня такой ремарки. Касается пальцами моей ладони, которой глажу кружева комплекта.
- И все же?..
- Он очень красивый. Сексуально-красивый. Тебе тоже понравится.
Его синяя радужка воодушевляющим образом темнеет. Не такая уже и беззаботная у Эдварда улыбка, в чем-то – почти оскал.
- Я буду очень, очень ждать, Белла.
- Спасибо! Но подождать придется, - смеюсь, потянувшись ему навстречу и быстро, но глубоко поцеловав. – Это подарок мне или тебе, в конце концов?
- Мне, - совсем не раскаиваясь, довольно отзывается Эдвард. Его невозможное, невероятное просто очарование – мой наркотик. Хоть прямо сейчас комплект и надевай.
- Ладно уж, мистер Каллен. Полезайте и вы под елку.
Эдвард смеется, шутливо отдает мне честь – «слушаюсь, мэм!». А потом, никак не скрывая своего энтузиазма, потрошит упаковочную бумагу своей коробки с искренним запалом. И удивленно замедляется, почувствовав пальцами холод жидкокристаллического экрана на дне коробки.
- Я знаю, ты не очень любишь фотографии, - поспешно поясняю, не заставляя его спрашивать, - но эти можно видеть только когда захочешь. Достаточно просто коснуться экрана.
Эдвард бережно достает свой подарок из упаковки, рассматривая его со всех сторон. Квадратная рамка для фото, электронная, занимает площадь с лист бумаги. И на нее уже загружены несколько фотографий.
- Schönheit, - тронуто вздыхает он, когда показываю, как ее включить. На тоненьком экране появляется наша самая первая фотография, там, у дворца Шарлоттенбурга. Ее снимал случайный прохожий, но мы вышли отлично. Вот Эдвард убирает мои волосы со своего лица, когда дует ветер, вот смеется, обнимая меня за талию. Мы тут такие живые, настоящие и... влюбленные. Мне она особенно приглянулась.
- Там есть еще, - улыбаюсь, тронув кнопку-невидимку снова. На экране теперь наш домик на Мюггельзе. Наше селфи из Стамбула. Памятная фотография с благотворительного бала «Порше» и еще одна, с рождественского празднества. Фото Фабиана и Гийома в Берлине, в океанариуме. И наше общее, еще и с Элис, когда обедали все вместе после ночных приключений Тревора.
- Ох, Liebe, - Эдвард вздыхает, очень искренне и тронуто заглянув мне в глаза. Пожимает в своей мою руку, которой переключала фото. – Спасибо тебе. Я люблю фотографии. С твоим появлением я их люблю.
- Я рада, если это так.
Тоже пожимаю его ладонь. Моя куда меньше, но Эдвард всегда так бережно, тепло ее держит. Он так держит и меня, когда обнимает. Он так всегда поступает со мной. И я не знаю, правда не знаю, как можно любить кого-то больше, чем его. Чувствовать к кому-то большую нежность и благодарность – светящуюся в самой темной ночи ярче, чем тысячи звезд. Уж точно.
Эдвард сам подает мне следующую коробочку. Она совсем небольшая, вмещает один лишь белый конвертик. Внутри него – подарочная карта на 300 евро. В «Старбакс».
- Эдвард! – весело восклицаю я.
- Мне стоит перечислить что-то в их благотворительный фонд, - улыбается он, пригладив мои волосы. Касается указательным пальцем щеки, тонкую линию прочертив до подбородка. – За то, что встретил там тебя.
- Это был драйв-форум.
- Это была случайность. А вот «Старбакс» – наше с тобой место силы, - смеется, поцеловав мой лоб. – Пей кофе, Schönheit. Пей кофе и всегда помни обо мне.
- Как будто это возможно.
Очередь Эдварда. Он достает из-под еловых лапок, аккуратно высвободив его, большой серебристый конверт. Проводит подушечками пальцев по слову «Эдвард», которым подписала его подарок. Улыбается краешками губ.
- Если это сертификат в «Икею», малыш, я потрачу его на мясные шарики и сине-желтые сумки.
- Тогда в следующий раз подарю его. Или уже сразу в «Hausen», купишь еще кружек – а то у нас их мало.
- Будет тебе, Изза, - смешливо фыркает он, все-таки вскрывая свой конверт. С интересом, который сложно сыграть, рассматривает плотный лист белой бумаги. Печать на ней цветная, шрифт кофейно-коричневый, с темной обводкой. И золотое тиснение на немецкой надписи «приглашение».
- Речь идет о кофе, - внимательно прочитав небольшой текст, частично на английском, частично – на немецком, подводит итог Эдвард. – Теперь расшифруй мне основную мысль, пожалуйста. Что такое каппинг?..
- Кофейный каппинг, - поясняю, наблюдая за вопросом на лице мужчины. Кажется, мы впервые коснулись темы, где я знаю чуть больше, чем он. – Множество разного кофе, черного, как ты любишь, с пояснениями о вкусе и регионе, методе его обработки, степени обжарки. Кофейная дегустация, Эдвард. Five Elephant – лучшая спешелти-кофейня Берлина, может быть ты слышал про нее. А в Штутгарде говорил мне, что хотел бы больше узнать про все это.
- Ты точная кофейная королева, Sonne, - он гладит мое плечо, коснувшись и прядей, - теперь я буду не просто пить кофе, а пить с пониманием. Но без тебя я туда не пойду.
- Пригласительный на двоих.
- Вот это уже дельно, - улыбается, - спасибо тебе.
- Не совсем понимаю, нравится тебе или это вежливость, Эдвард.
- Я не представляю, что это за мероприятие, давай назовем это так, - мило пожимает плечами он. – Но я иду туда с тобой, там будет много черного кофе и меня еще и просветят касательно него. Мне очень нравится.
- Ловлю тебя на слове.
- Или на кофе. Kaffee. Ну ладно, это было просто.
- Ich liebe Kaffee.
Он улыбается, когда я старательно произношу эту фразу. Целует мои волосы.
- Ich liebe dich. Danke, Schönheit.
Снова мой черед. Третья коробка – самая тяжелая. И подозрительно звенит, когда ставлю ее на пол.
- Осторожно, Белл, - как бы между прочим предупреждает Эдвард, когда поднимаю на него взгляд.
Ладно. Я разрываю бумагу, снимаю крышку, убираю лист картона. Внутри – четыре белоснежных крупных чашки. Та самая коллекция «Эмоции», которую я показала Эдварду на сайте компании лишь один раз. И которую раскупили почти сразу, потому что серия была лимитированная, в честь юбилея бренда. С ума сойти.
- Я тебя вообще не знаю, - бормочу, изумленно касаясь каждой чашки. – Как ты?.. Это же невозможно!
- Ну, мы же маньяки по части кружек, - подкалывает он. Хотя, если учесть все наши посудно-кружечные похождения, на шутку это не похоже. Соберем коллекцию.
Особенность чашек в том, что прямо из керамики, на стенках, вылеплены потрясающие по достоверности человеческие эмоции. Радость, злость, счастье и влюбленность. Берусь за удобные плотные ручки, рассмотрев каждую поближе. Эдвард, мне кажется, не ожидал, что буду так радоваться посуде.
- Как ты их нашел?..
- Ты сама мне показывала.
- Один раз и на экране мобильного. Ты даже сайт не запомнил бы.
- Как видишь, на память пока не жалуюсь, - Эдвард хитро улыбается, повернув ко мне лицом одну из чашек. – Влюбленность. Мне больше всех нравится.
- А мне – счастье, - вздыхаю, очень нежно, очень счастливо на Эдварда посмотрев. – Спасибо тебе.
- Не за что, любимая.
Эдвард всегда выглядит так одухотворенно, когда мне нравятся его подарки. Или когда говорю по-немецки. Или когда мы наедине и ничто, совершенно ничто идиллическое наше настроение разрушить не может. Я замечаю за собой, что мне нравится его радовать. Такое простое, а такое впечатляющее чувство – радость. Хорошо, что у нас есть теперь такая чашка.
- Доставай-ка следующую, Schönheit.
- А разве не твоя очередь?
- Не люблю правила, мы ведь не в Берлине, - фыркает Эдвард. Смеется.
И я смеюсь тоже. Вытягиваю из-под елки еще одну коробку, на сей раз золотистую, с красным бантом. Она выгодно выделяется на фоне всех других, дополняя переливы огоньков елочной гирлянды. Ничего стеклянного внутри нет. Эдвард усмехается, когда я проверяю. А потом вдруг смотрит на меня очень тепло и доверительно. Смягчаются огоньки веселья в его глазах, они теперь неярко блестят.
Удивленная такой метаморфозой, не тяну время. Открываю коробку, легко разорвав упаковку вдоль ее шва. Внутри увесистый, разноцветный журнал. Да это же «Bloom Eatery»! Печатная версия. Сразу несколько выпусков или подшивка?.. Не могу сразу разобрать. Касаюсь лакированной страницы пальцами, очерчиваю контур нашего логотипа. У меня уже даже нет сил удивляться, Эдвард сам себя лихо опережает с каждым разом. Нет ему равных.
- Это печатный экземпляр, - сама себе объясняю я.
- Открой оглавление, Белла.
Я переворачиваю страницу. Письмо редактора, завлекающее введение, фотографии, перечисление авторов и их прав... и само оглавление. Под темно-зелеными, крупными буквами разбиты по страницам все статьи выпуска.
Все мои статьи. Все, что я когда-либо для журнала писала. Даже самые ранние, первые, тестовые работы – и они здесь. За шестнадцать месяцев.
Потрясенно выдыхаю, в самом конце заметив ту статью – о новомодном бистро с молекулярной кухней в Митте – что послала Эммету перед самым отъездом в Мэн. И цикл о Штутгарде, отправленный неделей раньше. Он их все нашел.
Не знаю, что говорить. Просто оборачиваюсь на Эдварда, наблюдающего за мной и мягко, и как-то тревожно. Не могу подобрать правильных слов.
Мне кажется, он понимает. Поэтому говорит сам.
- Я хочу, чтобы ты знала, что я уважаю твой выбор профессии, Schönheit, - немного взволнованно объясняет, сам взглянув на журнал. - Раз и навсегда: то, что ты решила, то для тебя и лучше. Копирайтинг, обзоры, журналистика, блог – что угодно. Здесь все, что ты писала для журнала, твой редактор лично прошелся по списку и проверил. Я прочел половину, скажу честно, но я обязательно прочту все. И я очень, очень горжусь той работой, что ты проделала. Я горжусь тобой. Я считаю, у тебя должен быть полноценный, напечатанный экземпляр – даже с учетом нашего века высоких технологий. По крайней мере, я смогу заглянуть в гастрономический путеводитель, когда буду думать, куда позвать тебя на ужин. Или на кофе. На десерт. На Октборефест?.. Да тут на все случаи жизни есть вариант! Я прошу прощения, что не сделал этого раньше. И прошу прощения за все, что о твоей работе говорил. Этого не повторится, я обещаю. Я обещаю, Schönheit...
Эдвард продолжает, продолжает и продолжает... я молчу и он, словно бы всего прежнего недостаточно, рассказывает дальше. Полноценно раскрывает мне свое отношение к журналу и статьям. Я ведь так и не пошла на то собеседование в Центр морских исследований, отменила его и мне кажется, его это разозлило, укололо даже. Но мы пошли дальше, вроде как забыли... А сейчас Эдвард извиняется за то, что было, пытается угадать то, что будет... и не перестает смотреть на меня, глаза в глаза, когда представляет свой подарок. Не подарок даже, не журнал, о нет. Это гораздо большее. Это его
принятие. Моих занятий, увлечений, работы... меня.
Это принятие меня. А я так боялась, что мы никогда к этому не придем! Как же хорошо, что я ошибалась.
- Эдвард, - негромко говорю, привлекая его внимание. И останавливаю этот отчет.
Медленно, давая сполна рассмотреть каждое из своих движений, глажу его щеку, изгиб у челюсти, шею, плечи. Обнимаю, прижимаю к себе и долго, долго не отпускаю. Не хочу.
- Спасибо тебе, - пронято, тихо говорю, едва не плача. Но это приятные слезы, тронутые. - Ты не представляешь, что это для меня значит. И как я на самом деле тебе благодарна. Я люблю тебя.
Он вздыхает, отвечая на мои объятия. Не заставляет на себя смотреть, дает переждать это откровение и порыв щемящей нежности, но я сама хочу. Не отказываюсь от его взгляда, принимаю его, показываю свои слезы... и облегченно выдыхаю, когда целует меня. Много, много раз – медленно, нежно, без толики похоти. Как самую большую свою драгоценность.
- Счастлив тот, кто нашел свою душу, - шепчет мне на ухо, поцеловав у виска, - ты – моя душа, Белла.
- Я еще рассмотрю его подробнее... и прочитаю.
- Почитаешь мне вслух, - предлагает Falke, убрав волосы с моего лица.
- Обязательно, - обещаю я.
Вздохнув, достаю из-под елки последнюю коробочку для него, совсем крошечную. Смаргиваю, прогоняю слезы. Эдвард пронято за мной наблюдает.
- Я знаю, это немного странный подарок и он совсем маленький... но я не смогла пройти мимо.
Он открывает коробку, осторожно вытряхнув на ладонь ее содержимое. Смотрит на крохотную деревянную руну как на восьмое чудо света. Оглядывается на меня и глаза его, мои, такие невероятные, мерцают потаенными огнями. Эдвард улыбается как-то особенно сейчас. Недоверчиво и потрясенно. Делает глубокий вдох.
- У нее вроде бы хорошее значение, - начинаю переживать я, наблюдая за его реакцией, - я читала, там...
Эдвард медленно качает головой, сводя на нет все мои объяснения, нивелируя эту тревогу.
- Ты будешь смеяться, Schönheit.
В мою ладонь, некрепко придержав запястье, кладет свой заключительный подарок. Точно такую же руну – линия в линию, цвет в цвет. Хагалас.
- Да ты что...
- Я тоже не смог пройти мимо, - обезоруживающе улыбается Сокол, вздохнув. Потирает пальцами края собственного амулета. – Хагалас. Восстановление утраченного равновесия.
- Это же поразительно.
- Любовь, стало быть. Благое знамение.
Я кажусь себе более потрясенной, чем Эдвард. Он постепенно становится таким спокойным и счастливым. Словно бы четко теперь что-то понимает, словно нашел ответ на вопрос, который годами себе задавал.
- В Штутгарде, возле нашего дома, там лавка...
- Она самая, - улыбается моему неверию, согласно кивнув. – И руны на витрине. Я сразу подумал о нас, когда увидел ее.
- Я сначала искала ту, что ассоциируется у меня с тобой. А потом прочла об этой... только мы и можем друг друга уравновесить, Эдвард. Только нам под силу это равновесие вернуть.
- Значит, нам суждено быть вместе, - вдохновленно, радостно резюмирует Эдвард. Переплетает наши руки. – И в это Рождество, и во все, во ВСЕ следующие...
- С Рождеством, geliebt!
- С Рождеством, Schatz, – громко, победно произносит Сокол. - С Рождеством!
- - - - - - - - - - - - - - - Просыпаюсь в абсолютной прострации. Не понимаю даже, что проснулась, просто в один момент пропадают огоньки ели, гостиная и аромат специй для глинтвейна. Я не чувствую больше прикосновений Эдварда, хотя все вокруг неуловимо о нем напоминает. Только темнота сгущается над постелью, шуршат простыни. И одеяло, что так крепко к себе прижимаю. Дрожу, кутаюсь в него, хотя мне жарко. Наволочка подушки немного влажная. Где-то вдалеке слышен негромкий шелест воды. Из-под порога ванной виднеется тонкая полоска света.
А где же наше Рождество?.. И эта елка, подарки?.. Где Falke, что только что меня целовал? Несколько раз моргаю, нахмурившись, стараясь разделить сон и явь на две равные половины. Получается далеко не сразу – хоть и спала, бодрости я не чувствую. Скорее всю ту же, лишь немного приглушенную, вязкую усталость. Черт.
Уже утро. Восемь часов и пятнадцать минут – электронные часы на комоде отсвечивают ненавязчивым бежевым цветом. Снегопад закончился, сугробы – все, что разделяет линию неба и земли, они формируют ребристый горизонт. Тьма безбрежная, густая, душная. Ни леса, ни океана, ни звезд.
Я поворачиваюсь на бок, обняв подушку обеими руками. Место Эдварда пустует, но простыни еще теплые – он только встал. И снова в душе. И мобильный его, позабытый на прикроватной тумбе, непрерывно вибрирует. Вот что меня разбудило.
Ярко горит экран айфона, подсвечивая номер, но я его не знаю. Вода в ванной мерно течет по плитке душевой. Не стану отвечать.
Я закрываю глаза, с головой накрывшись одеялом. Пытаюсь успокоиться, выровнять дыхание, что слишком частое. Чувствую глухое сердцебиение и сухость губ. Отличное начало дня, ничего не скажешь. Скидываю одеяло обратно, выбираюсь из-под него. Слишком жарко, это уже невозможно. Нет здесь ни толики того приятного, расслабленного настроения, что видела во сне-воспоминании. На миг мне кажется – и это жуткое чувство – будто его больше и не будет. Тревор, Кэтрин, прошлое Эдварда... все наваливается как снежный ком. Пугающе мерцают блики от телефона на оконном стекле.
Вибрация прекращается. Экран затухает.
Пару минут спустя смолкает и плеск воды. А еще через минут пять Эдвард тихонько возвращается в комнату. Он уже в домашней одежде, на выбритом лице блестят пару капелек воды, волосы влажные, усталости в синем взгляде нет. Скорее напряжение, какая-то нездоровая активность, блуждающие огоньки. И черты такие скованные, мрачные, лишь наполовину освещенные светом ванной. Правда, выражение лица мужчины чуть смягчается, когда он видит меня.
- Проснулась, Liebe? Morgen.
Невесело усмехаюсь тьме за окном. Эта зима хоть когда-нибудь кончится?
- Так и не скажешь, что Morgen...
Он слабо улыбается уголками губ, присаживаясь на край постели рядом со мной. Наклоняется, целует мою щеку, потеревшись о кожу носом.
- Поспишь еще?
Эдвард не пахнет собой, только лишь гелем для душа – такой резкий аромат выжигает его запах. Кожа у Falke холодная. Баритон еще хриплый после сна, но в нем уже слышны стальные нотки.
- Не думаю. Ты давно проснулся?
- Не так уж, - уклончиво отвечает. – Еще много дел, пока дети спят.
- Твой мобильный звонил.
Он озабоченно оглядывается на тумбу.
- Когда?..
- Пока ты был в душе. Я не отвечала, нет. И я не знаю, кто это, - не заставляя его озвучивать еще пару вопросов, сообщаю все и сразу. Сажусь на постели и прежде чем Эдвард успевает снова встать с нее снова, некрепко обнимаю его. Мужчина мягко гладит мою спину, не отстраняя так скоро. Целует волосы.
- Все будет хорошо.
- Мы сделаем так, чтобы было, - твердо обещает. – Это точно.
Он не настаивает, я сама его отпускаю. Эдвард убирает пару прядок волос с моего лица, состроив гримаску улыбки. Но глаза его не улыбаются. И я начинаю переживать с новой силой – и за Фаба, и за него. Сегодня это должно закончиться.
- Приготовлю завтрак, - решаю я, когда Эдвард забирает телефон с тумбы. Сажусь на постели, потянувшись. – Гийом хотел панкейки, ты не против?
- Нет, Изза, - механически отзывается он. Хмуро набирает сообщение. – Это Тимотей. Я буду в кабинете.
Чуть подрагивает тень от светильника. Идеальная тишина прерывается только нашим дыханием.
- Как скажешь.
Эдвард выходит из комнаты – неслышно закрывает дверь. В ванной так и горит свет. Я поднимаю одеяло с пола, небрежно бросив его на постель.
Начинается новое утро.
Morgen.
* * *
В траттории, с традиционным названием «У Джузеппе», заняты все уличные столики. Туристы, наводнившие рождественский Рим, млеют от теплой и бесснежной погоды. Они садятся лишь на террассах, заказывают «Апероль» и неспешно потягивают его, смакуя каждое мгновенье каникул. Италия и отдых — это, в принципе, синонимы. По крайней мере, ее отец обожает это повторять, сразу же за тем ругая итальянский подход к делу, организацию рабочих процессов и бесконечную сиесту.
- Искусство – их удел, Викки. Быть может, еще одежда и кулинария, - накручивая на вилку папарделле, скрепя сердце признавал он. Всегда называл Витторию на немецкий манер – «Викки», никогда не использовал мамино «Витто».
- А как же автомобили, papi? – обыкновенно спрашивала она, ерзая на своем стуле. Их было у стола три штуки и с уходом мамы один всегда оставался пустым. «Витторией» ее тоже назвала она, и Витто, бережно храня это имя, всегда и всем представлялась именно так. Ей казалось, что так сохраняется связь с матерью.
- Автомобили, Викки, всему миру продаем мы. Парочку итальянских суперкаров не сравнятся ни с заводами «BMW», ни с запасниками «Порше».
Кажется, тогда Витто и решила, что однажды обязательно попадет в одну из таких компаний. Раз уж немецкий автопром был и остается флагманом индустрии, нигде больше она не приобрет такой бесценный опыт. Она сделала тест господина Каспиана за сорок пять минут, ожидая поезд в Кельн. Не слишком серьезно отнеслась к нему, скорее ради интереса отвечала на вопросы. А через неделю, когда уже и подзабыла о тесте, господин Каспиан сам ей перезвонил. И спросил, не хочет ли Витто поработать с главой представительства «Порше» в Европе. Оказывается, в том тесте она набрала все 100 баллов.
Пожилой итальянец в майке «Поло» с синим воротничком подает Виттории меню. Замечает ее среди всей террассы – единственную, к которой пока никто не подошел – и торопится обслужить.
- У нас есть Aperol Spritz, - старательно выговаривая английские слова, кривовато улыбается. Джузеппе, должно быть. По-хозяйски следит за тенденциями, туристическими предпочтениями и даже учит английский, что не так уж часто встретишь.
Виттория мило улыбается ему в ответ.
- Molte grazie. Preferisco il caffè.
(Спасибо большое. Я больше люблю кофе). - Parla italiano! Tu vieni dall'Italia!
(Говорите по-итальянски! Вы из Италии!) - радостно восклицает Джузеппе, сразу же проникнувшись к Виттории до глубины души. Его темные глаза сияют. – Ci sarà l'espresso in un secondo! Qualcos'altro?
(Сию секунду будет эспрессо! Что-то еще?) - Gnocchi alla romana, per favore.
Она не смотрит в меню, называет его по памяти, и Джузеппе ценит ее разборчивость. Кажется, на этой террассе Витто теперь его любимый гость.
- Certo mio caro
(Конечно, моя дорогая) - ласково обещает он. Прихрамывая на правую ногу, возвращается в заведение, за тяжелую деревянную дверь. Там тоже полная посадка, но уже из итальянцев. В декабре мало кто из них решит ужинать на улице.
Виттория наблюдает маленькую, но колоритную жизнь терассы траттории на перекрестке людных, но узеньких улочек близ Навоны. Туристов много, они повсюду, и все же, это не лето. Виттория была в Риме лишь один раз летом, но успела почувствовать истинное значение слова «многолюдность» в тот приезд.
Сейчас все более-менее спокойно. Пара молодых людей скромно целует друг друга в щечку, переплетя руки на красной скатерти стола. Взрослая женщина спорит о чем-то со своим спутником, таким же высоким и статным, как господин Каспиан, но он слушать женщину не намерен, категорично ей отказывает. Парень и девушка, судя по всему, просто друзья, делят на двоих закуску в виде баклажана пармиджано. Одинокий пожилой мужчина, откинувшись на спинку стула, неспешно допивает свой эспрессо.
- Allora, un caffè, - обращается к ней хрипловатый мужской голос из-за спины. Виттория никак мне ожидает такого скорого его появления.
- Grazie, - машинально отвечает.
- Prego, - не глядя, бросает молодой официант. А затем вдруг оборачивается, прижав к себе темный поднос. Изумленно на Витторию смотрит.
Витто и сама не верит своим глазам.
- Ты?..
Черт, она совершенно забыла его имя. Что-то итальянское, мелодичное, приметное. Давид? Джакомо? Джулио? Нет.
- Дамиано, - помогает он, поджав губы. – Виктория. Вот и познакомились.
- Виттория, - хмурится Витто, откинув волосы с лица и как-то нервно взглянув на свой эспрессо в белой чашке. – Ты и здесь кофе варишь, Дамиано? Это призвание?
- Если только по крови, - он пристально смотрит на нее сверху-вниз, немного наклонив голову. Как бы свысока, но все еще на грани вежливости. – Ты говоришь по-итальянски.
- В Риме это кого-то удивляет?..
Он выглядит чуть менее эпатажно, чем в Берлине, этот Дамиано. Никуда не делась татуировка у шеи, конечно же, но она прикрыта воротом рубашки. И глаза лишь подведены черным, никакой больше косметики. Три серьги совсем неприметны, их прикрывают волосы, собранные в хвост на затылке. Невысокий фартук официанта повязан на поясе черных брюк.
- И правда, - сурово кивает, сразу же пустит в тон лед. – Хорошего вечера, le auguro la buonanotte, signorina.
(Хорошего вечера, синьорина) Черт. Наблюдая, как он уходит, скрывшись за деревянной дверью, Витто мысленно себя ругает. Слишком резко начала, думается. Она не закончить этот разговор хотела, а поддержать его. Остывает свежесваренный эспрессо. Виттория делает первый глоток, поморщившись от горечи исконно итальянской, черной обжарки.
Дамиано не появляется на терассе еще минут десять. Она допивает свой кофе, отставляет чашку и почти мирится с мыслью, что это все случайность. Там, в кофейне Берлина, Дамиано был подчеркнуто с ней груб. Герр Каллен пояснил, что все дело в их с ним личных делах, Витто не имеет к этому никакого отношения. И все равно осадок остался. Он ведь ей понравился...
Вскоре двери заведения снова открываются. Дамиано, с полным подносом брускетт, появляется в проеме. Улыбается другим гостям, мило о чем-то с ними беседует, как правило, на английском. Рассказывает влюбленным про Апероль Шпритц, а друзьям рекомендует попробовать лимончелло – традиционный итальянский диджестив. Все на террасе удивлены отличным английским Дамиано и покорены его обаянием. Это будто бы само собой происходит, никто толком не замечает. Виттория ловит себя на мысли, что она тоже под впечатлением. Впрочем, к ее столику молодой человек подходит нехотя, в самую последнюю очередь.
- Ты им нравишься.
Дамиано и бровью не ведет, сухо поблагодарив ее за такой комплимент.
- В Берлине публика куда более мрачная – наловчился.
- Эспрессо был очень вкусным...
Дамиано такое не пронимает. Снова просчет.
- После спешелти? Правда?
Она сама подает ему чашку, сперва передав ее, а только затем – блюдечко. И ложку. И сахарницу. Тянет время.
- Здорово, что с рукой все обошлось...
Он неглубоко вздыхает, сдержав себя и всего-то мрачно на Витто взглянув. Отводит пострадавшую руку вправо, вместе с подносом. Подальше от ее поля зрения.
- Давай начистоту, Виттория. Ты меня преследуешь? Это новое задание?
- Задание?..
- Твоего большого босса, - фыркает он, прищурившись. – Зачем теперь?
- Моя семья живет в Риме, Дамиано. Я даже не знала, что ты здесь работаешь.
- Так уж случайно зашла?
- На терассе было свободное место. Да что с тобой? У меня рождественские каникулы, между прочим.
- Секретарям их тоже дают? Или у тебя особые привелегии?
Виттория скрещивает руки на груди, откинувшись на спинку своего стула. Дамиано кажется ей раздраженным и теперь, когда вот так отвечает, Витто и вправду интересно проверить. У нее есть сумасшедшая теория.
- Герр Каллен и Изабелла сейчас в США, - кратко поясняет, приметливая к малейшей реакции на красивом лице парня. – Семья, праздник, дети – все стабильно. Я там не нужна.
Дамиано очень хочет не отреагировать на
ее имя. Как может себя сдерживает, а все равно выдает. Виттория всегда подмечала людские реакции, отчасти потому и сдала тест Каспиана лучше всех. Инутиитивно знала ответ, сумев представить ситуацию во всех красках. Да и мистер Каллен, кажется, пока ей доволен. Боги, если Дамиано ему дорогу намеревался перейти, с его девушкой... Царь Леонид он, предводитель спартанцев, не меньше – ничего не боится.
- Классных тебе каникул, - скоро отвечает Дамиано, сжав пальцами край темного подноса. Уносит его, не дав Витто и шанса вставить слово. Его уже зовут за соседними столиками.
Подспудно Виттория знает, что он вернется. Похоже, терассу возложили на его плечи и Дамиано ничего не остается, кроме как принести ей обещанный Джузеппе заказ. И как только он переставляет блюдо на ее столик, Виттория, не привыкшая пасовать, берет дело в свои руки.
- Здорово увидеть дома знакомое лицо. Ты тоже из Рима, Дамиано?
- Нет. Джузеппе мой дядя, так что это – моя очередна подработка, считай так.
- Ты успешен в каждом из своих проектов.
- Проектов? Да ты меня с кем-то путаешь, Виттория, - скалится он.
- Кажется, мы не так начали. Попробуем еще раз? В десять вечера по пятницам в Giardino degli Aranci играет хороший уличный бэнд. Давай встретимся там.
Он как-то странно на нее оглядывается, изогнув бровь. Выглядит и комично, и будто бы издевается. Поправляет салфетницу, повернув к Виттории лицевой стороной.
- Работаю до поздна, Витто. Приятного тебе аппетита.
Им больше не удается поговорить, да и не слишком Виттория стремится. Раз так вызывающе ведет себя, не намерен продолжить общение – его дело. Не зря мистеру Каллену и Каспиану этот парень не нравится. Сексуальный, харизматичный, привлекательный... но как этот эспрессо – слишком крепкий. Игра не стоит свеч.
Дамиано приносит Виттории счет, но теперь она даже не смотрит на него. Рассчитывается наличными, оставив на чай символические два евро. Тут же поднимается со своего места, ничего напоследок не сказав. Дам не настаивает, но взглядом ее провожает, Виттория чувствует.
Она встречается с друзьями ближе к вечеру, у Колизея Марчелло. Они покупают клубничное мороженое и болтают о чем-то до самого заката. Виттория никому не рассказывает о Даме, хотя сама никак не может выкинуть его из головы.
К запланированному времени уличного концерта они опаздывают, приходят почти на полчаса позже. У Апельсинового сада,
Giardino degli Aranci, расположившегося на обрыве крепостных стен, уже не протолкнуться, музыка довольно громкая, ее отражают вековые римские камни. Внизу мчится быстрым потоком Тибр. Шелестят листвой апельсиновые деревья над головой. И бархатно, хрипло поет мужской голос – до боли красиво:
Sarò il fuoco ed il freddo
Riparo d'inverno
Sarò ciò che respiri
Capirò cosa hai dentro
E sarò l'acqua da bere
Il significato del bene
Sarò anche un soldato Парочку друзей, пришедшие с Витто, находят им место поближе. Виттория просачивается сквозь толпу, остановившись у импровизированной сцены как вкопанная.
Дамиано, правой рукой обхватив микрофон, продолжает песню. Это его голос. Его манера исполнения. Его запоминающийся, яркий образ – темная рубашка, распущенные волосы, змеями разметавшиеся по плечам. Большие карие глаза, длинные черные ресницы и исказившаяся линия рта. Дамиано не поет эту песню, он ее проживает. Двое парней сзади аккомпонируют ему, наполняя сад особой мелодией. Слушатели в восторге.
E Coraline piange
Coraline ha l’ansia
Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua
E forse il mare è dentro di lei Он с таким чувством, с таким глубоким пониманием произносит каждое слово. Будто нет ни Рима, ни музыки, ни этой толпы. Есть только Дамиано. Его голос. И песня, которую прежде Витто никогда не слышала. Отрезвляющая, прекрасная, трагичная песня. Дамиано проживает ее, он все знает, он правда так чувствует. Он поведал свою Каролин...
E tu dimmi le tue verità
Coraline, Coraline, dimmi le tue verità Виттория поспешно достает из кармана айфон, подняв его выше. Нажимает на кнопку «запись». Замирает на своем месте. Такое зрелище стоит сохранить на память. Получается, что она Дамиано на его же концерт собиралась позвать! Мудрое решение.
Le han detto in città c'è un castello
Con mura talmente potenti
Che se ci vai a vivere dentro
Non potrà colpirti più niente
Каролин. Дамиано, заканчивая, неспешно открывает глаза. Виттории кажется, у него они влажные – а может, это просто такой свет. Он мягко кивает публике, выдыхает «grazie». Затихает таинственная мелодия его аккомпониаторов. Кто-то бросает в их чехол от гитары пару евро – они падают, звякнув.
Глянув вправо, скорее по инерции, чем выжидательно, Дамиано внезапно замечает ее. И скромно, смущенно улыбается.
Grazie.
Витто аплодирует.
* * *
Я слышу, как кто-то спускается по лестнице. Шаги негромкие и неспешные, но довольно тяжелые. Он не прислушивается к происходящему на первом этаже, не останавливается в коридоре, сразу проходит гостиную. Потому что знает, что я уже не сплю – прошло чуть больше сорока минут, как мы оба покинули спальню. Я развела тесто для панкейков, но решила пока не жарить их, дождаться пробуждения Гийомки – чтобы были горячие. Вероятно, Эдвард услышал кофемашину, я уже заглядывала к нему, звала хотя бы кофе попить. Обещал, что скоро будет.
- Я уж думала – ты не придешь.
В невысокую керамическую чашку медленно наливается лунго. Кофейный аромат витает под потолком, простираясь до самой прихожей. В неярком свете кухни все это напоминает давнюю рождественскую рекламу.
- Будешь кофе? – не оборачиваясь, зову Эдварда я. Отодвигаю от края упаковку яиц, отправив в мусорное ведро белоснежную скорлупу. Falke предпочитает блинам омлеты – прямо сейчас его и готовлю.
Пришедший что-то совсем негромко отвечает. Шипит на разогретой сковородке оливковое масло, потрескивает кофемашина. Я не слышу.
Все-таки поворачиваюсь к нему. Наверное, слишком резко. Фабиан вздрагивает, правой ладонью сжав спинку стула. Это не Эдвард, это он пришел.
- Извини пожалуйста, Тревор.
Он очень старается сохранить лицо.
- Д-доброе утро, Изз.
- Доброе утро, - шепотом повторяю за ним я. Выключаю электрическую конфорку плиты, отвернувшись от кухонных тумб. Тревор наблюдает за каждым, самым мелким моим движением.
Он стоит у самых дверей, придерживая пальцами длинные рукава своей кофты. Она иссиня-черная, из какого-то синтетического материала, явно чересчур большая ему, растянутая. Края этой кофты неприметны на фоне черных домашних брюк, их я уже видела когда-то. На ледяной плитке пола Фабиан стоит босиком.
- Как ты, Тревор?
- Ты спрашивала про кофе. Можно мне?.. – просит вместо ответа. Поджимает губы, вдохнув через нос. Ярко контрастируя с одеждой, кожа его белоснежно-бумажная, почти прозрачная. Заплаканные глаза кажутся чересчур огромными на изможденном лице. Тусклые волосы траурно спадают на лоб и виски. Тревор их не поправляет.
- Черный? Остались только лунго-капсулы.
- Черный, - он сдавленно кивает, прочистив горло. Говорит чуть громче, голос совсем хриплый. – С с-сахаром.
- Ты вчера почти ничего не ел, Фабиан. Давай я что-нибудь для тебя сделаю? Перед кофе?
Моя тревога его не напрягает и не нервирует, скорее немного забавит. Горько и грустно забавит, я бы сказала. Юноша прикрывает глаза, покачав головой. Дрожат его черные ресницы.
- Я не могу пока есть. Меня вырвет.
Кофемашина затихает, приготовив лунго. Горячий кофе еще чуть пузырится среди белой керамики чашки. Я аккуратно ставлю ее на стол рядом с Фабианом. Придвигаю ближе сахарницу с маленькой серебристой ложкой.
- D-d-danke, - выдыхает мальчик. Отодвигает для себя стул, поморщившись скрипу. Тяжело опускается на его сиденье, устало взглянув на чашку с кофе. Отсыпает в него две ложки сахара с горкой, быстро берет обеими руками прямо за горячие бока, игнорируя ручку. Делает три больших глотка, прежде чем опускает чашку обратно на стол.
- Ты поспал хоть немного?..
- Да. Куда больше, чем думал, что смогу.
Фабиан инстинктивно отодвигается ближе к спинке своего стула, когда присаживаюсь на соседний, рядом с ним. Убирает ладони под стол, кладет их на свои колени. И игнорирует мой хмурый взгляд.
- Как ты себя чувствуешь сейчас?
- Нормально.
- Ты дрожишь. Холодно?
- Это не от холода. Я просто... я больше не могу.
Он морщится, словно от боли, когда говорит. Запрокидывает голову, закрывает глаза. От его лица отливает последняя краска.
Терпеливо жду его, слушаю, не двигаюсь на своем месте – и Тревора это подкупает. Остывает его переслаженный кофе.
- Я только хочу, чтобы все это закончилось.
- Ты сегодня это закончишь, - и обещаю, и напоминаю мальчику. Осторожно, не желая напугать, прикасаюсь к его правой руке.
Фабиан вдруг резко втягивает воздух, дернув руку обратно к себе. Слишком поздно. Подушечками пальцев я чувствую, что что-то не так.
Ранка? Его большие, исколотые болью черные глаза замирают на мне. В них выжженная пустыня.
- Тревор?
- Не думай, что я мазохист, - сдавленно, скоро поясняет, задушив всхлип. Вздергивает подбородок, смотрит на меня как будто свысока, как будто даже снисходительно. Но совсем по-детски дрожат его губы. – Я никогда себя не резал или не... я никогда!..
- Что с тобой случилось?..
Я не кричу, я даже в полголоса не говорю, это больше похоже на шепот. Потому что только шепоту Тревор доверяется. Избегает смотреть на свою ладонь, игнорирует ее как может – только на мое лицо глядит. И медленно, но верно начинает задыхаться.
- Я пытался зажечь эту долбанную сигарету на балконе. Но руки не слушались, она падала... и когда я поднимал, то я... я... блядство!
На его правой руке, на коже между большим и указательным пальцем, с тыльной стороны ладони зияет темно-бордовая рана. Круглая, точь-в-точь под форму сигаретного края. Часть этой раны теряется в складочках кожи, а часть остается на непосредственное обозрение. Края запекшиеся, черно-коричневые, кое-где еще с частичками пепла. Цвет ожога меняется от его середины к кайме, от красного до черно-серого, мелкими искорками осевшего дальше эпицентра.
Zigarettenglut.
- Ты делал так раньше?
Он наблюдает за моим лицом с тревогой, почти с болью. Сжимает губы, но не отворачивается, не опускает взгляд.
- Никогда.
- Но стало легче, когда?..
- Да, - вздрагивает, снова постаравшись выдернуть у меня свою ладонь. Но я держу крепко, не даю ему, и Тревор приглушенно всхлипывает. Стискивает зубы. – Да, стало. Да! ДА.
Мальчик хочет увидеть мою реакцию. Не знаю, какую именно, вероятнее, отрицательную. Он сорвано дышит, всматриваясь в мое лицо и выискивая там хоть что-то... хоть толику... злости? Господи. Это уже не просто страдания, это самый настоящий надлом. Фабиану нужна профессиональная помощь – сразу, как признается Эдварду. Это еще долго будет с нами. Я вижу в черном взгляде мальчика, насколько долго. Он сам себя заживо сжигает в этой боли... и уже почти что буквально.
- Тебе отвратно? – вызывающе, решительно спрашивает. Глаза сухие, слезы испаряются.
- Нет, Тревор. Мне больно.
- Запомнишь меня как психопата...
- Нет, Тревор, - спокойно – излишне спокойно – повторяю я. Медленно, очень бережно глажу его здоровую кожу. – Тебе плохо. Когда людям плохо, они на многое способны. И особенно – причинять себе боль. Но руку нужно обработать.
- Пусть бы шрам остался...
- Боюсь, вполне может. Вставай. Давай-ка, к умывальнику. Я включу воду.
Он почему-то со мной не спорит. Призраком поднимается со стула, медленно приблизившись к раковине. Зачарованно наблюдает за струей прохладной воды, неспешно поднеся к ней ладонь. Не дергается, только чуть чаще дышит. Незаметно подрагивают у крана его пальцы.
Все это мучительно напоминает мне Берлин. Там, в «Сиянии», в последний раз. Когда стимер обжег руку Дамиано, защитившего мое лицо. И этот испуганный взгляд Тревора, который понял, что он сделал. Который не хотел. И вздувшиеся вены на лице Дама, когда он... и та же вода, и промокшая его байка, и...
- У меня как будто в горле сердце... – тихонько признается Тревор, не отрывая глаз от водяной струи. Бледнеет среди прозрачной влаги его рана. – Как будто в горле стучит. Как это называется?..
- Тахикардия. Не стоит больше пить кофе сегодня. Тебе больно?
- Нет.
- Но страшно?
- Очень.
Он сглатывает, краткосложно отвечая на мои вопросы. Прислоняется поясом к умывальнику, опирается об него. Вода уже совсем холодная.
- Достаточно. Садись обратно. Осторожно, вот так. Да.
Из дальнего шкафчика кухни достаю баллончик «Бепантола». Тревор мрачно наблюдает за тем, как наношу гель на его кожу. Супится.
- Скоро будет легче.
- Я правда никогда не думал, Белла... чтобы... вот так.
- Я понимаю. Ничего. Ничего, милый.
Я не сразу решаюсь погладить его плечо, как сделала бы прежде. Но Тревор не противится, наоборот, он, кажется, ждет моего прикосновения. Посматривает исподлобья, как однажды Паркер, закусив губу. И судорожно, резко выдыхает, стоит мне его коснуться. Чуть не плачет снова.
- Прости меня...
- За что, Фабиан?
- За все... все это. За меня.
- Ты замечательный, - доверительно шепчу, наклонившись к нему чуть ближе. Глаза Фабиана влажнеют. – Я уже говорила тебе, правда?
- Ты сказала вчера, что я тебе... дорог, - выдавливает мальчик, и смущенно, и подозрительно нахмурившись. – Потому что я похож... на него?
- Дети всегда похожи на родителей, Тревор. Вы с папой похожи, но вы – отдельные личности, разные люди. И в тебе, помимо привлекательной внешности, есть еще очень много хорошего.
- Неправда.
Я касаюсь ладонью его щеки, мягко, но уверенно – не даю отвернуться. Тревор отчаянно кусает губы.
- Спросим у Сибель? У твоих родителей, у Парки? Разве же неправда?
Он поджимает плечи, немного наклонив голову. Здоровой рукой сжимает рукав кофты, почти что разрывает его. Шумно вдыхает и выдыхает через нос.
- Ты не знаешь, что я сделал. Ты бы так не говорила.
Он сам сказал. Все равно бы оно не осталось вне досягаемости. Значит – пора.
- Это связано с мамой Сибель? – аккуратно зову я. - То, что ты сделал?
По лицу Фаба проходит судорога. Тревор затихает, замирает на своем месте, ошеломленно посмотрев на меня сверху-вниз. Его темные глаза затягиваются праведным страхом. И подозрением. И мраком.
- Что?..
- Папе звонили из полиции вчера вечером. На флаконах от лекарств, за которые отвечает ее мать, Тревор, твои отпечатки. Скажи мне, что ты сделал?
Тревор смотрит на меня одну долгую, бесконечную секунду. А затем подрывается с места.
- Нет... нет!
- Фабиан, что ты сделал? – настаиваю, не давая ему скатиться на самое дно близящейся истерики. Юноша загнанно оглядывается по сторонам. Ударяется о стул, о столешницу, о стену. Приникает к ней спиной, выискивая хоть какую-то опору.
- Что с Сибель? – севшим голосом зовет меня. – Она мне звонила? Она наверняка мне звонила! Изза! Где Vater? Где он?!
- Он был в кабинете. Тревор?..
Мальчик меня не слушает. Он не спешит, он попросту бежит в сторону домашнего офиса отца. Ударяется плечом о стену несколько раз, но не останавливается. Шумно, хрипло дышит, до их белизны сжав губы. Меня больше не замечает, хотя следую за ним по пятам.
Эдвард говорит по телефону, когда Фабиан врывается в комнату. Громко хлопает дверь и Каллен-старший удивленно оборачивается от окна.
- Vater, что с ней? Что с Сибель?!
- Я перезвоню, Тимотей, - заканчивает разговор Сокол, вопросительно глянув на меня за спиной сына. – Да, хорошо. Да.
- Что «да»? Что?! – настаивает юноша, до крови кусая губы и вздрагивая всем телом. Весь в черном, на гребне своего эмоционального фола и в конечной стадии отчаянья, с трудом за себя отвечает.
Эдвард крепко, но бережно обнимает его плечи. Тревор вырывается.
- Фаб.
- Нет. Говори мне. Без прелюдий, ну же? НУ ЖЕ.
Каллен, смерив его внимательным, трезвым взглядом, говорит твердо, но уважительно.
- Сибель дома, Тревор.
Фабиан хмурится, вздернув подбородок. Втягивает в себя воздух, бледняя от страха снова начать задыхаться. Но становится спокойнее, когда слышит отца. Верит, что тот не врет. Понимает.
- Что с ней будет?..
- Зависит от того, что ты знаешь. И что мне расскажешь.
Эдвард контролирует ситуацию. Меня немного утешает этот факт, потому что при виде истерики Тревора я паникую. Сокол говорит вежливо, доверительно, спокойно. Он не обвиняет, не настаивает, не диктует условий. Пока что.
- Она не виновата, vati, - стонет юноша, запустив руку в волосы. Тянет их со своей силы, будто это помогает держать себя в руках. – Пожалуйста...
- А кто виноват? И в чем?
- Я.
Эдвард вздыхает, кратко глянув на меня снова. С горечью. Именно такой сценарий он мне вчера и предсказывал.
- В чем ты виноват, Тревор?
- Трамадол разливал я. Не Сибель. Она даже не знала! Она звонила мне, правда? Где мой телефон?
- Он у меня. Ты оставил в машине.
- Папа, она не виновата!
У Эдварда сейчас и строгое, и безэмоциональное лицо. Выдержанное, спокойное, хоть и немного бледное. Взгляд очень внимательный, пронзительный, я бы сказала. Темный пуловер, брюки – словно бы сейчас не шесть утра, а ближе к полудню. И ничего вопиющего точно не происходит.
- Садись за стол, Фаб. Нам надо поговорить.
В комнате, отданной под домашний офис, огромный рабочий стол, за которым я уже писала статьи. И кресло, кожаное и удобное, хоть и совсем не мягкое, позади него. Еще два кресла стоят напротив, они вне цветовой гаммы, Эдвард говорил, что привез их из старого дома и никак не мог отыскать подходящего места. Стеллаж с рядком полок пристроился у левой стены, напротив окна. Но там, помимо пары автомобильных журналов ничего нет.
- Она звонила мне, да? Звонила, папа! – почти плачет Фабиан, сжав ладони в кулаки. – Мне нужно к ней.
- Ты никуда не пойдешь, пока мы не пообщаемся, - мирно, но безапелляционно повторяет Эдвард. – Садись, сынок. Давай же.
Тревор пронзает отца взглядом с секунду, не больше. Озлобляется, каменеет его лицо. Эдвард и бровью не ведет, а Фабиан до крови закусывает губу. Резко разворачивается, так же резко садится на кресло у рабочего стола. С жутким грохотом приставляет его ближе, кладет руки на изогнутые подлокотники. Выпирающие костяшки вот-вот порвут кожу.
- Сибель не сделала ничего плохого, - насилу сдерживая тон, говорит юноша.
Эдвард садится рядом с сыном, до минимального сократив расстояние. Я тревожно замираю в дверном проеме.
- Я не знаю ничего о том, что делала или не делала Сибель, - поясняет Эдвард, краем глаза подметив мою позу, но никак ее не комментируя. Все его внимание сейчас принадлежит сыну – и того же он требует в ответ. – Я знаю только про тебя. На стекле от наркотиков твои отпечатки пальцев.
- Это не наркотики.
- Это не кокаин и не гашиш – ты прав. Это сильные обезболивающие. Наркотические обезболивающие. Медицинские наркотики, Фабиан.
Эдвард чудесно собой владеет. И голосом, и эмоциями, и движениями... я начинаю думать, что его самоконтроль нас всех сейчас спасет. На фоне личного маленького ада Тревора эта темная история меркнет, не глядя на всю ее подоплеку. И все же, Эдвард прав, если вмешалась полиция, а мальчик под подозрением... сперва придется разобраться с этим.
- Она помогает людям. Ее мама.
- Даже так? Продавая эти препараты наркоманам резервации?
- Там не наркоманы, - Фабиан дрожит и дрожь эта просачивается в его голос, он ничего не может с ней поделать. Белеют его губы. – Она им помогала. Тем людям, что... что не могут терпеть.
- Фабиан, ты правда в это веришь? Так думаешь?
- Ты слышал про «Даласский клуб»? – срывающимся тоном настаивает юноша, что есть мочи сжав спинку стула пальцами. – Они умирают от рака, у них четвертая стадия и метастазы в костях... они умирают от боли, задыхаются в ней... она их спасала.
- Ты тоже кого-то спасал?
- Ты не понимаешь, папа...
- Не понимаю, - признает Эдвард. Он сидит ровно напротив сына, слегка наклонившись к Фабиану всем корпусом. Не дает опустить взгляд. – Просвети меня. Расскажи мне все.
- Она один раз попросила меня помочь.
- Когда?
- В субботу, когда вы приехали.
- Как помочь, Фабиан?
- Перелить его в маленькие... мелкие ампулы? Я не знаю, как это называется.
- Шприцом? Чем?
- Чистым шприцом, да. На 10 миллилитров. Из флакона – туда. До золотистой отметки. По 2 миллилитра, кажется.
- Сколько было флаконов?
- Пять.
Фабиан зажмуривается, а потом резко открывает глаза. На его лице нет слез, но глаза ими просто залиты. Горячими, солеными и отчаянными. Отчаянье последние пару дней – второе его имя.
- Она заплатила тебе за эту работу? – настойчиво спрашивает Эдвард. Тон у него заметно холоднее.
- Да. Мне нужны были деньги и она заплатила – за работу и молчание. Я обещал, что никогда не скажу Сибель.
- И сколько?
- Четыреста сорок долларов.
Тревор не закрывается, говорит как на духу. Сжимает руки в кулаки, периодически неровно выдыхает – и только. Не молчит.
- Зачем тебе нужны были деньги, сын?
Вот тут Фабиан осекается. Пронзительно смотрит на отца, но ничего не отвечает. Под кожей его скул ходят желваки.
- На личное, - бормочет.
- И ты делал это снова?
- Нет. Только один раз, я уже сказал, - Фабиан поднимает голову выше, надменно посмотрев на столешницу и свои руки, что все еще дрожат. Как рентгеном себя просвечивает, говорит много и сразу, не отмалчивается. – Я увидел, как она принесла их... один раз, второй... она все спрашивала, скажу ли я полиции. Я обещал этого не делать. И я не говорил.
- Ты давно знал, получается.
- Да. Но иначе они бы умерли с голоду. У миссис Коейн есть долг за дом и плата за школу...
- Хорошее оправдание у ее матери, - вздыхает Эдвард. – Допустим. А Сибель?
Как только ее имя звучит в комнате, в Треворе сразу происходит заметная метаморфоза. Он выпрямляется, держит голову ровно, кладет ладони на стол. Глаза его пылают тысячей огней, ходят пазухи носа и в едком оскале замирают уголки рта.
- Сибель никогда и ничего не делала. Она не знала.
- Разве можно не знать о таком? – настаивает Сокол. Фабиан судорожно выдыхает, черты его становятся строже, опаснее.
- Можно. Я сделал все, что бы ее оградить. И ее мать – тоже.
- Но ее мать посадят, Тревор, - сделав акцент на этом глаголе, медленно поясняет Эдвард. Страшно и пусто мерцают синие глаза. – На пять лет точно. А может и на дольше, если выяснится весь объем такой «помощи» нуждающимся.
- Она не дилер. Они примут в рассмотрение обстоятельства, это благое дело, и...
Фабиан сам не верит тому, что говорит. Его голос подрагивает, он часто моргает, прогоняя слезы. Озлобленность сменяется бессилием. И обратно. И снова.
- Сибель пойдет соучастницей, - отец обрывает его на полуслове, несильно встряхнув. Тревор застывает на своем месте. – Ей светит колония для несовершеннолетних. Ты понимаешь это, да?
- Не выйдет. Она не знала. Она не виновата.
- Это еще нужно доказать присяжным, Фабиан. И это под большим вопросом. Не знала или не хотела знать.
Тревор сам себя окорачивает, удерживает на плаву. Как может игнорирует дрожь, как может борется с отчаянным ужасом. Глаза его распахнуты, пламя бушует в темной радужке. Искажается от оскала его лицо.
- Она не сядет за это. Никогда. Я не позволю.
- Ты что-то можешь сделать?
- Могу, - уверенно кивает юноша, неглубоко вздохнув. – Это моя вина. Я это сделал. Я и понесу наказание.
Эдвард откидывается на спинку кресла, сложив руки на груди. Смотрит на сына и снисходительно, и с подозрением. Как-то странно улыбается. Я не понимаю, что происходит.
- Ты никогда не сядешь за нее, - мирным тоном, совершенно противоположным реакции, что ожидают от него на такое заявление, поясняет сыну. Фабиана так и подбрасывает на этом кресле, а Эдвард абсолютно спокоен. Он и говорит медленно, размеренно – чтобы все услышали. И всё услышали тоже.
- Если я признаюсь, им ничего другого и не останется, как взяться за меня.
Тревор смотрит на отца с вызовом.
- Ты недооцениваешь судью и присяжных, сынок. Мать Сибель могла заплатить тебе за такое признание. Или вынудить на него.
- Меня никто не принуждал!
- Ты уверен в этом? А суд – нет. Я тебе гарантирую.
Я начинаю понимать, к чему Эдвард клонит. Сперва не доверяю этому ощущению, все еще держась у проема, но постепенно мысли обретают более понятную форму. Очевидную. Он намеренно Фабиана провоцирует. С этим вопиющим, невозможным просто умиротворением. Даже насмешливым в чем-то.
- Она же правда не знала... папа! Сибель не знала, я тебе клянусь.
- Она звонила семь раз, Тревор, - Эдвард кладет айфон сына на стол, экраном вниз. - Это в истории вызовов, можешь убедиться. И рассказывать, знала или нет, будет она уже не нам.
Тревор шумно сглатывает, отчаянно глянув на свой мобильный. Озарение пронзает его внезапно –до самых костей, до кончиков пальцев.
- Ты можешь ее спасти.
Он нервно выдыхает, сжимает руки в кулаки на своих коленях. Искажается его лицо, каждая черточка. И от боли, и от облегчения одновременно. Приливает к щекам краска.
Эдвард сохраняет прежнее спокойствие. Но на сына смотрит выжидательно.
Фабиан понял, к чему был этот разговор. Он попался.
- Зачем мне это, Фаб?
- Потому что я тебя прошу, - переборов дрожь голоса, поясняет юноша. Не кричит, говорит даже тише нужного, но тон безумно эмоциональный. – Помоги ей, папа. Ты можешь ей помочь. Умоляю, помоги ей.
- Ты представляешь себе, чего это будет стоить, Тревор? И чем для нас всех оно может обернуться? Если ты прикрываешь ее и Сибель замешана в этом деле?
- Я клянусь тебе, что нет. Я отработаю каждый цент. Папа, пожалуйста!..
Эдвард вздыхает, садится ровнее. Фабиан приникает к столу, умоляюще на него взглянув. Озноб его становится сильнее.
- Тебе придется рассказать мне все, что знаешь о Сибель, ее родне и этих препаратах. Досконально, как оно было, Фабиан.
Мальчик с готовностью кивает, судорожно вздохнув. Медленно разгорается в его глазах ликование. Облегчение. Спасение.
- Конечно!
- Еще – цена, - подобравшись к самому главному, Сокол говорит медленнее, чуть громче. И смотрит прямо сыну в глаза, не давая отвести взгляд. – Я заплачу сколько потребуется и сделаю все, что в моих силах, чтобы ее вытащить, твою Сибель. У тебя будет мое обещание. Но...
- Папа!..
- Но.
Эдвард предупреждающе поднимает руку, призывая дать ему закончить. Фабиан поспешно закрывает рот, вцепившись левой рукой в подлокотник кресла.
- Но, Тревор. У меня есть условие.
- Что угодно! - не думая, в запале обещает он. И тут же об этом жалеет.
Синие глаза Эдварда вспыхивают, мгновенно погасая.
- Начиная с этого самого дня ты больше Сибель не знаешь.
Тревор недоуменно хмурится.
- В каком смысле?..
- Вы расстанетесь. Ни встречи, ни звонка, ни смс. Ничего. Как будто ее и не было.
Господи.
Мне кажется, я застываю в пространстве вместе с Фабианом. Даже постаравшись подготовить себя к тому, что такое предложение наверняка от Сокола последует... не выходит. Черт.
Я до крови кусаю щеку изнутри, глядя на то, как затягивается мраком лицо Тревора. Он разом сникает на этом кресле, став тенью самого себя. Его губы уже даже не синие, они белые. На правой щеке появляется слезная дорожка.
- Нет... – недоверчиво, сорвано бормочет, заклиная отца забрать свои слова обратно. – Ты так не поступишь со мной. Нет.
- Это мое предложение, - повторяет Эдвард, призывая прислушаться. – Тогда я сделаю то, что от меня требуется. Лично дам показания, какая она замечательная и примерная девочка.
В черном взгляде юноши ни единого живого места. Он тонет в своих слезах.
- Я же люблю ее, vati...
Эдвард глубоко, слишком глубо вздыхает. Складывает руки на груди.
- Если правда любишь, то спасешь, Фаб. Это в твоей власти.
Фабиан еще пару секунд пространно смотрит на отца, словно что-то для себя понимая.
А потом кресло мальчика летит к противоположной стене комнаты. Он быстро поднимается на ноги, резко отшвырнув его от себя. Бессилие в нем сменяется гневом. Ужас – ненавистью. И отчаянье, изрезанное до крови, расчлененное, правит этим водоворотом чувств. Нет больше дрожи, от Фабиана исходит ощутимый жар, страшная энергия, с которой он не может сладить. И шторм, поднимающийся в глубине его глаз, не сулит никому ничего хорошего.
- Эдвард, Тревор, - зову их, очень надеясь, что еще не поздно это остановить, - послушайте, нужно поговорить чуть спокойнее и подробнее. Можно будет найти решение. Для всех.
- Изза, это лишнее, - предупреждающе качает головой Falke. – Дай Фабиану самому решить. Ему нужно время, а времени все меньше.
- Эдвард.
- Тише, Изза. Я сказал – тише, - с хорошо приметными стальными нотками в голосе, велит он.
Фабиан сорванно, грубо смеется. Почти безумно.
- Ты и Белле заткнешь рот, да? Нам всем. Чтобы было по-твоему.
- Тревор, я всего лишь хочу помочь.
- Никогда ты этого не хотел, - усмехается Фабиан, резанув меня остротой этой усмешки. – Ты не спасаешь, ты разрушаешь, пап. Все и всех вокруг! Ты блядское чудовище!
У него красные ободки глаз, белое лицо и брови, сведенные к переносице. Он отражает Эдварда, зеркалит его. И все темное, все страшное поднимается на поверхность. Без единой надежды на спасение.
- Очень лестно, сын, спасибо, - сдержанно произносит Эдвард. Я вижу, что не сомневается в своих словах и не видит ничего вопиющего в предложении. Боль надо излечить болью, мы уже пришли вчера к этой его истине. И эта убежденность, мрачность, горечь... уверенность в своей правоте. Контроль. Ответственность. Кандалы защиты. Невыносимый тон, взгляд и слова... Эдвард прекрасно отдает себе отчет, что он делает. Но мне кажется, может быть мне чудится лишь на секунду, что видя Фабиана таким сейчас... на мгновенье все же колеблется. Поддается этой эмоции.
Может?.. - Давай договоримся.
Все, что угодно, но только не это.
- Не конструктивно, Тревор.
...Нет. Не может. Тревор, оценив и ответ, и вид отца, вдруг пьяно, совсем нездорово улыбается. Заостряются все черты на его красивом лице. Сникает дрожь и замолкает сорванное дыхание. Он поворачивается к папе, глядя ему прямо в глаза, возвышаясь над ним, за счет того, что стоит на ногах. И говорит:
- Я спал с ней.
Безмолвие пронзает эту комнату, когда Фабиан наконец признается. Больше ничто его не сдерживает. Я крепко сжимаю косяк двери обеими ладонями. Страшно темнеет кресло Сокола напротив окна.
Впрочем, Эдвард не понимает. Пока еще – нет. Я тревожно наблюдаю за ними обоими и это очевидно.
- Я знаю, что спал, сын, - выдыхает он, потерев переносицу. – Кредитка, помнишь? Я как минимум платил за презервативы.
- Нет, - Тревор смешливо морщится, как от хорошей шутки, но голос его совсем хриплый теперь. - Я спал с ней, Vater. Я спал с Кэтрин.
Сокол не спешит с ответом. Вслушивается в эти слова почти минуту. Ждет пояснений, которых Фаб не дает. И ему приходится спросить самому.
- С какой Кэтрин?
- Твоей. С твоей шлюхой Кэтрин, сестрой Роз.
Эдвард вздергивает голову.
- Что ты такое говоришь, Фабиан?!
- Она кончала на меня, называя твоим именем, - сжав зубы, признается юноша, чуть покачиваясь на своем месте, - дрочила мой член и рассказывала про твой... рассказывала о тебе. Сначала без имени, но я понял... я очень быстро ее понял...
Эдвард заметно бледнеет. Сперва он хмурится, острее становится линия скул, челюсти... а вот потом бледнеет. С силой выдыхает, поднимаясь с этого чертового кресла. Теперь они с Фабианом наравне. И Фабиан взгляд не отводит.
- Уходи отсюда, Белла.
- Никуда она не пойдет, - сразу же обрубает Фаб. - Изза остается. Пусть тоже услышит. Спит же с тобой! Имеет право!
Упрямство Фабиана находит на мрак Эдварда как коса на камень. Их безмолвное противостояние длится не больше пары секунд, а кажется, что бесконечно. Напряжение в воздухе так ощутимо, что почти вибрирует.
- Ты меня слышала?
- Эдвард...
- Черта с два, - улыбается Тревор. Только в улыбке его уже нет ничего живого, он как покойник сейчас.
Мне жаль, что я делаю это с Соколом. Но я обещала Фабиану быть здесь – и я буду.
- Позволь мне остаться, - тихонько прошу его, почти что одними губами.
И Эдвард, немного подумав, уступает сыну этот раунд. Видит, что не сильно-то и хочу убраться из кабинета. Наступает себе на горло, наверное, но не спорит – намечающийся разговор ценнее. А Фабиан на откровения сегодня настроен как никогда.
- Я не понимаю, Тревор, - зовет сына огрубевшим, жестким голосом. Не просит, а требует объяснений. – Давай сначала. Ты хоть представляешь, о чем рассказываешь?
Фабиан нарочито наплевательски пожимает плечами. Глаза у него такие черные, что зияют. Все в них мертво, кроме догорающего адреналина. От него и руки у Фабиана дрожат, когда так крепко держится за стол – как за последнее, что осталось.
- Вполне.
Эдвард старается держать себя в руках и не подаваться эмоциям. Сейчас и ему, и Фабу как никогда нужна извечная папина сдержанность. Потому что младшим Калленом только чувства и правят. Худшие, самые страшные из них.
Falke подходит к сыну ближе. Кладет руки на его плечи, некрепко их сжав. Тревор резко выдыхает, пропуская вдох.
- Трев, послушай меня. Если это игра или пустые слова, прошу тебя, скажи мне сразу. Такие заявление – это не то, чем шутят.
- Правда что ли?.. – только и выдавливает в ответ мальчик. Усмехается сквозь слезы, низко опустив голову. Прикасается подбородком к вороту своей растянутой кофты, изо всех сил борется с дыханием. Когда оно сбивается, он по-настоящему паникует.
- Тревор! – восклицает Эдвард. Хмурится, всматриваясь в лицо сына и не видит там насмешки или энтузиазма рассказать небылицу. Наоборот, в красивых чертах Фабиана, в его чертах, самого Эдварда, отраженных в сыне, поселяется лютое отчаянье.
В один момент мне кажется, что Тревор не станет говорить. Не поверит, что папа его слышит, что примет его слова и не усомнится в их искренности. Что он замолчит и больше не даст отцу и шанса. Даже на волне боли, адреналина и ужаса, как сегодня, когда земля уходит из-под ног.
Я очень боюсь такого исхода и готова вмешаться. Самонадеянно, да, но вполне справедливо. Но Фабиан помнит, что это – его гештальт. Я зря в нем сомневаюсь.
- Сперва она ласкала меня через одежду, - негромко говорит, буравя взглядом пол кабинета. - Сначала аккуратно, я даже не понял... долго ласкала, растягивала удовольствие, уговаривала... это был единственный раз, когда я так долго продержался – минут пятнадцать, наверное. А когда кончил... она так улыбнулась тогда, прямо расцвела. Растирала пальцами мою сперму, гладила член и приговаривала, что это – только начало. Я, грязный и отвратительный мальчишка, получу справедливое наказание этой ночью.
Эдвард не задает никаких вопросов, не произносит ни слова и не издает ни звука. Он потрясенно слушает, жадно впитывая каждую подробность такого откровения. С каждым словом сына бледнеет его лицо. А вот у скул начинает появляться нездоровый румянец.
- Потом она отсосала мне, - как неживой, шепчет Фабиан. Сам себя подстегивает на продолжение, изо всех сил пытаясь на замолчать. - Первый раз в моей гребанной жизни сделала мне минет и это было... слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я думал, меня разорвет... а она все... и глубже, и дальше!.. Она говорила, что такого у нее тоже еще не было.
Фабиан снова как бумажный. Губы, совсем сухие, почти не дрожат уже. Он поднимает взгляд на Сокола, не моргая всматриваясь в его лицо.
- Она дважды мне отсосала, папа. Что звезды из глаз сыпались! Я тогда все думал... сколько в нас?.. Сколько вообще может быть спермы?.. И есть ли у этого долбанного удовольствия хоть какой-то гребаный конец...
Фабиан делает вдохи куда чаще, чем прежде. У него дрожат и ресницы, и уголки губ, и все лицо – какой-то странной, мелкой дрожью. На белых щеках выступает краснота. Он пытается жестикулировать, мой мальчик, пытается как-то обречь свои слова в жесты, донести их ярче. В этом маленьком представлении спрятать свой стыд, тревогу и бессилие. Закопать их в быстрых словах и не менее быстрых движениях. Движения притупляют боль. И Фабиан почти постоянно движется.
- Знаешь, когда мы дошли до самого секса... я уже не был уверен, кто я...
Эдвард пробует коснуться его, но Фабиан уворачивается. Отшатывается от него загнанным зверем, предупредительно вздернув руки перед собой. Выглядит это пугающе. Каллен застывает в пространстве, не желая напугать его сильнее.
- Не тронь меня! Никогда больше не тронь меня! – задыхается Тревор. Отступая, он упирается спиной в стену, крепко к ней прижавшись. И только уверившись, что и я, и Эдвард остаемся на прежнем месте, сам себя обвивает руками. Что есть мочи сжимает пальцами ткань кофты, едва ли не рвет ее. С силой жмурится, прогоняя слезы. Он уже ненавидит их, эти слезы.
- Она скакала на мне целую ночь, - хрипло признается нам обоим и скорбно, страшно мерцают его глаза. – Я не помню, сколько раз мы... я не считал. Я кончал и кончал, а эрекция не пропадала. Она восхищалась мной, целовала, лизала, кусала... она сходила с ума! Со мной никогда такого не было – ни до, не после... я как будто был не в себе с ней. От оргазмов или ее криков, или?.. Я был весь в ней, Vater! В ее смазке, ее запахе, волосах... а она обмазывала себя моей спермой и... и смеялась, что теперь он – какой-то «он» - теперь навсегда будет ее. Она говорила, какой я красивый, как похож на «него». Мне это льстило.
Фабиан накрывает нижнюю часть лица ладонью, что есть силы зажмурившись. Задерживает дыхание, а потом резко делает сразу несколько вдохов. Стирает ребром ладони слезы, появившиеся на щеках – так зло, растерянно, быстро. Чертыхается.
- В последний раз она кончила с диким криком, - шепчет, переборов себя и посмотрев прямо отцу в глаза. – Я думал, она сошла с ума или что-то... она кричала твое имя. На мне. Блядь, на мне!.. Ты понимаешь?! «Эдвард» - она кричала!
Его удивительное, прекрасное лицо искажается от нечеловеческой боли. Такое глубокое, измученное страдание его пробивает... Фабиан вздрагивает, качнувшись у стены, и пропускает вдох. Медленно, будто прострелянный, начинает оседать на пол.
Эдвард подхватывает его через секунду, может быть, чуть меньше. Прижимает к себе, обняв и спину, и плечи, и голову. Держит его крепче, когда Фабиан начинает вырываться. Отражает каждое движение, каждый выкрик, каждое из рыданий.
- Тревор. Тревор, Тревор, Тревор, ш-ш-ш, Тревор...
- ТЫ СЛЫШИШЬ? Ты слы-ши-и-и-ишь меня? – хрипит мальчик у его плеча, сжимая в кулаки руки, вытянутые по швам. – ПАПА!
- Я слышу, сынок. Я слышу, - унимает, утешает его Falke. Касается щекой мокрого виска сына, зарывается пальцами в его волосы, удерживает затылок. – Я здесь. Видишь? Я здесь.
Тревор рыдает, но больше не отталкивает его. С каждой минутой дыхание его становится более частым и хриплым, пока не превращается в сплошные свистящие хрипы. Фабиан хватается рукой за кофту, что есть силы отводя в сторону ее ворот. На лице его чистое страдание.
- Vat-t-ti…
- Дыши, Тревор, - бархатно, что никак не вяжется ни с выражением его лица, ни с позой, уговаривает Эдвард. – Сейчас отпустит. Давай, вместе со мной. Вдох.
- Я был готов умереть тем утром, после... лучше бы я умер.
- Ни одна тварь, особенно эта, не стоит твоей жизни. Вдох. Со мной, сынок, давай же. Вдох.
- Лучше бы я молчал... лучше бы ты никогда...
- Не правда. Как же я ценю твое откровение, Тревви, - Эдвард целует его лоб, влажный и горячий, и Фабиан придушенно всхлипывает. – Твою правду. Я так благодарен, что ты сказал мне. Вдох. Садись на кресло. Вот так. Вдох.
Фабиан касается затылком его плеча. Перестает вырываться, искренне старается дышать вместе с Эдвардом, под его счет. Выгорая, пропадает с его лица ярость и боль. Остается только усталое, темное бессилие. Обреченность. И много, много слез.
- Я так хочу ее забыть...
- Ты забудешь. Вдох, Тревор. Однажды это останется давним сновидением, не больше. Я тебе обещаю.
- Ты не можешь такого обещать, - хмыкает он. – Никогда мне не обещай больше... я не верю.
- Тревор, я люблю тебя. Вдохни. Вот так, лучше? Да? Еще раз – вдох. Я люблю тебя больше всего на свете. Тише.
- Ты смеешься надо мной.
- Я никогда надо тобой не смеюсь. Вдох. Вот и все, видишь? Закончилось.
Тревор медленно, неровно выдыхает. Обмякает в объятьях отца, перестав и пытаться контролировать свое тело в пространстве. У него больше нет ни на что сил.
Эдвард безмерно спокоен. И только глядя на него, проникаясь этим его спокойствием, Фабиан, кажется, унимается и сам. Усталость набрасывает на него свою сеть, затягивает ее петлей на шее. Мальчик с трудом понимает, что происходит вокруг, глаза его пустые и осоловевшие.
- Ты даже сейчас такой... когда я сказал тебе... - шепчет, облизнув сухие губы, - ты так ничего и не понял.
- Мы поговорим снова, когда ты немного отдохнешь, - обещает ему Каллен, бережно погладив у челюсти. – Скажи сейчас только, больше не тяжело дышать?
- Больше – нет.
- Хорошо.
- Папа?
- Да, Тревор.
- Я больше не хочу просыпаться.
- Тебе будет гораздо легче, когда проснешься, - Сокол нежно гладит его по волосам. – Поверь мне.
- Нет, - Фабиан морщится, поежившись на своем месте. – Не правда.
Такая реакция, слова, выражение лица Эдварда – строго-снисходительное, спокойное – и мне кажутся неестественными. Фабиан ожидает от него гораздо больше. Он, обнажает себя до последней грани, не стесняясь в выражениях и жестах... а в ответ – такое. Фабиан не понимает, что происходит. Я с первого взгляда не понимаю тоже.
Эдвард будто бы собственные чувства, какие-никакие эмоции и реакцию попросту выключает.
- Мне жаль, что ты теперь знаешь...
- А мне – нет. Но это потом. Пойдем в постель.
- Ты не станешь меня нести.
- Очень даже. Изза? Когда Паркер проснется...
- Я побуду с ним, - поспешно обещаю, не дав ему даже досказать. Тревожно смотрю на выбеленное лицо Тревора. – Не волнуйся.
- Спасибо, - просто, кратко отвечает Falke. И всецело теперь уделяет внимание Фабиану. Впрочем, мальчику уже все равно. Он пространно смотрит прямо перед собой, с трудом замечая папу. Не произносит ни слова, не издает ни звука. А потом закрывает глаза.































































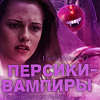







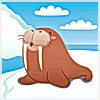 ...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в
...вы можете стать членом элитной группы сайта с расширенными возможностями и привилегиями, подав заявку на перевод в  ... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в
... что можете заказать комплект в профиль для себя или своего друга в