Название:
Игры, в которые мы играем Категория: Авторские истории. Другие фандомы
Фандом: Голодные игры
Бета: +
Жанр: драма
Рейтинг: PG-13
Пейринг: Пит/Китнисс
Саммари:
- Пусти! Я хочу уйти! Пусти!– я нервно дергаюсь в руках Пита.
- Нет. Не хочешь.
Вот и все. Так просто. Я смотрю на Пита, он смотрит на меня, а потом притягивает за подбородок к себе. Его губы соленые и влажные. А еще они нервные. Но не настолько, как мои... Не знаю, не понимаю, что творится со мной, но я впиваюсь в его губы с такой непостижимой одержимостью, будто мне не хватает воздуха, будто Пит и есть мой воздух. Когда я, наконец, отстраняюсь, Пит тяжело дышит и смотрит на меня незнакомым ранее взглядом. Мне хочется исчезнуть, провалиться под землю из-за своей слабости. Но Пит выдыхает: «Еще», и я чувствую облегчение: он жадничает не меньше моего.
-1-
Луговина вновь зазеленела: запестрела неуместными красками посреди грязно-серого, разрушенного Дистрикта-12. Трава укрыла собой братскую могилу, заполнила воронки от разорвавшихся снарядов, замаскировала одуванчиками, васильками и мятой последствия человеческих поступков. Природа простила. Я – нет.
Прислоняюсь к дереву, закрываю глаза и велю самой себе расслабиться, почувствовать, как утренние лучи нагревают кожу щек, как ветер играет с выбившимися из косы волосками, как просыпается после страшной зимы природа, а жизнь сменяет собой смерть. В последние месяцы я часто проделываю это, пытаясь забыть об Играх, Революции и президенте Сноу. По правде говоря, выходит не очень: в скрипе веток мне все еще слышатся стоны умирающих у президентского дворца детей, в журчании ручья - надсадное дыхание переродков, а в трелях соек – пение Руты. Воспоминания мучительные. До мерзости яркие. Но доктор Аурелиус велел искать даже в самых печальных черных моментах проблеск света, а найдя, крепко держать в памяти - заведомо невыполнимая задача. Но недавно в Деревню победителей вернулся Пит, притащил из леса треклятые примулы, высадил их под моим окном, и что-то изменилось... Нет, чуда не произошло, но пустующий дом Пита хотя бы снова был освещен и не казался опасной черной громадиной.
Чтобы не сидеть без дела, каждое утро, а иногда и вечер я беру лук, иду в лес, охочусь, рыбачу на любимой скале или просто блуждаю между деревьев. Лес – единственное место в Двенадцатом, где я чувствую себя в относительной безопасности.
Услышав копошение в кустах, открываю глаза и на автомате выпускаю стрелу. Охотиться – это все, что я умею. И люблю. Хозяйка из меня никудышняя, если бы не Сальная Сэй, давно бы померла от голода: готовить ни сил, ни желания.
- Вот, - говорю вместо приветствия, бросая на стол заячью тушку.
- Сойдет, - отзывается Сальная Сэй. – Вечером приготовлю жаркое.
После того, как миротворцы разбомбили Котел, она осталась на улице: черный рынок был для Сэй и домом, и работой. Поэтому мое предложение пару раз в неделю приходить в Деревню Победителей, чтобы готовить и убирать, она приняла, не раздумывая. Еще бы! Какие-никакие деньги. Да и мне было не так одиноко. Мóю руки и сажусь за стол, вдыхаю запах булочек, волшебным образом появившихся в мое отсутствие – Пит заходил. Словно прочитав мои мысли, Сальная Сэй говорит:
- Минут десять как ушел. На завтрак принес.
Пожимаю плечами как можно равнодушнее, Сэй совсем не обязательно знать, что мысль об этих булочках, которые непременно найду на столе, вернувшись с охоты, грела меня больше, чем старая охотничья куртка отца.
- Есть будешь? Я чай согрела, - Сэй гремит посудой.
- Буду.
Пододвигаю к себе блюдо и ем прямо оттуда, впиваясь зубами в булки, будто голодала неделю. Привычка – вторая натура. Наверное, я никогда не смогу отделаться от страха остаться без куска хлеба. Пит знает это, потому и таскает свежую выпечку каждый день. Сегодня нарочно выбрал момент, когда меня не было дома: вчера я сорвалась на него, заявила, что «не нуждаюсь в задушевных беседах и личном мозгоправе». Знаю, он не виноват, хотел помочь. Но я еще не готова говорить о том, что случилось около Президентского Дворца.
О ней.
От выпечки идет вкусный сладковатый аромат, очень похожий на запах Пита. Наверное, корица и ваниль намертво въелись в его кожу. Но это хорошо. Это приятные запахи. Пусть лучше так, чем вонь гниющего тела и крови: так от Пита пахло, когда я нашла его среди камней у реки, на наших первых Играх. Запах смерти совсем не идет ему. Он никому не идет. Но Питу особенно. Потому что... потому что это Пит. Я уже давно хочу поговорить с ним об одном деле, но все не могу выбрать момент.
-2-
Ужинаем под сальные шуточки Хеймитча, который то и дело цепляется ко мне или развязно подмигивает, косясь на Пита. Мы – его единственное развлечение после Революции. Не считая алкоголя, естественно. После того как в Двенадцатый вернулись люди, наладилось и самогоноварение. На радость местным пропойцам.
- Слышал, ты отстраиваешь родительскую пекарню, - Хеймитч переводит взгляд на Пита.
Лицо Пита светлеет на глазах. Я видела, как местные ребятишки, бегая по лесу, ставили на деревьях красные крестики, помечая те, которые можно использовать для восстановления торговых рядов. В том числе и пекарни.
- Мы почти закончили разбирать завалы. Со следующей недели приступаем к строительству. Некоторые лавки совсем неплохо сохранились, начнем с них. Думаю, к осени закончим.
- Вот видишь, солнышко, парень делом занят: пользу людям приносит. А ты чем порадуешь? Или так и будешь с утра до вечера слоняться по лесу?
Вспыхиваю, но приказываю себе прикусить язык. Никому не скажу, что один только взгляд на развалины школы и шахты, напоминает мне о Прим и отце. А еще люди, которые смотрят на меня как на восьмое чудо света. То ли боятся, то ли восхищаются. Я не различаю. Такое ощущение, будто я никогда и не жила в Двенадцатом, будто прилетела с другой планеты. Они глядят на меня: дочь погибшего шахтера, а видят ее: Сойку-пересмешницу. Мне всегда было тяжело среди людей, а сейчас особенно.
- А что? Я тебе мешаю?
- Да нет. Но ты ведь не думаешь и дальше так жить? Работа не будет лишней. Быть может Пит возьмет тебя к себе? Например, уборщицей, – Хеймитч ухмыляется, смотря на меня. Ощущаю, как щеки наливаются злым румянцем.
- Знаешь, что... – начинаю я, но тут влезает Пит:
- На самом деле, я как раз собирался предложить Китнисс...
- Что? – мой голос звучит странным фальцетом.
- Правда? – не меньше моего удивляется Хеймитч.
- Только не уборщицей, а работником зала. Мне как раз нужен человек на кассу.
- О-о-о... – Хеймитч смеется в кулак. – Ты сильно рискуешь, парень. Таким злющим лицом она тебе всех покупателей распугает.
- С меня довольно! - встаю из-за стола, сгребаю тарелки и ухожу на кухню.
- Я вообще-то ел, - жалуется Хеймитч, но мне все равно.
Хватаю губку и начинаю мыть посуду, чтобы хоть чем-то занять себя. Не могу сейчас видеть Хеймитча. Спустя пару минут чувствую знакомый сладковатый запах – Пит стоит за спиной и не решается заговорить, наверное, опасается, что запущу в него тарелкой. Правильно делает. Знает меня... От этого злюсь еще сильнее.
- Можно мне? – Пит аккуратно теснит меня к стене и принимается вытирать мокрые тарелки, складывая в ровную стопку. Решил попытать счастье. Ну, попытай.
- Это же Хеймитч, не принимай близко к сердцу.
- Даже не думала, - вру я.
Хеймитч прав. Пит – молодец. Он гораздо смелее меня. Он не боится заглянуть прошлому в глаза. Во время бомбежки погибла вся его семья, их разнесло в клочки вместе с остальными, теми, кто направился по главной дороге. Но Пит держится: старается не вешать нос, помогает другим, как может. Для оборванных голодных жителей Двенадцатого он стал идейным вдохновителем и движущей силой в одном лице. За это его и любят.
За это и я люблю его.
Слова вылетают вперед мысли, и я бубню под нос:
- Хочешь жить здесь?
Пит замирает, смотрит на меня во все глаза. Стараюсь дышать ровно, хотя сердце прыгает в груди, как подорванное: мне страшно услышать его ответ. Сама не знаю почему.
- В смысле?
- В смысле здесь. В моем доме, - говорю как можно равнодушнее, будто спрашиваю о том, какая погода за окном, и на всякий случай поясняю: - Как соседи.
Пит молчит, и я уже жалею о сказанном.
- Считаешь, это глупо?
- Я сам хотел предложить. Просто не знал, как ты...
- Отнесусь к этому? – с души будто падает камень. – Нормально. В конце концов, это даже разумно. Ты, я, Хеймитч – мы все одиночки: не родственников, не друзей. Даже слово сказать некому. К тому же... вдвоем будет легче выжить. Я буду отвечать за мясо, ты – за хлеб.
Пит мычит что-то утвердительное и начинает вновь вытирать посуду.
- Хеймитча ты тоже пригласила?
- Не думаю, что его заинтересует подобное. Да и я, честно говоря, не в восторге... Эти его пьянки. Речь только о тебе. Согласен?
- Завтра перенесу вещи.
Еле слышно перевожу дыхание: а ты боялась! Злюсь на саму себя, и на Пита, который так легко согласился. Подозрительная часть меня ядовито шипит: «Да ведь ему это только на руку, теперь задушит своим вниманием, так и будет в душу лезть». Меня прошибает холодным пóтом, роняю губку и шепчу:
- Знаешь, я тут подум...
- Что ты говоришь?! – вдруг кричит Пит, обращаясь к Хеймитчу, завалившему в свое любимое кресло у окна. – Сейчас принесу.
Пит достает из холодильника лед и несет его Хеймитчу. На меня не смотрит, и это только подтверждает мою догадку: Пит хитрит, нарочно не позволил мне закончить, чтобы не дала задний ход. Знает меня. Как облупленную знает!
-3-
Жить под одной крышей с Питом и легко, и трудно в равной степени. Легко, потому что сосед он отличный: встает рано, готовит вкусно, дома почти не бывает. Я тоже, но это другое: Пит пропадает в пекарне. Сплошные плюсы на первый взгляд. Но есть и пара минусов. Первый: теперь я живу с мужчиной. А это сложнее, чем жить с мамой и Прим. Приходится одеваться, даже когда ночью идешь в туалет. Следить, чтобы посуда всегда была вымыта: Пит жуткий чистюля и аккуратист. Мириться со сквозняками: Пит всегда открывает окна в той комнате, где находится, ибо «нужно чаще проветривать, Китнисс». Но и у Пита есть недостатки, о которых я раньше не знала. Пит разговаривает сам с собой, а это немного жутко. Знаю, вести разговоры ему посоветовал доктор Аурелиус. Так Пит не теряет ощущения реальности момента, но когда слышишь в ночной тишине шепоток из его спальни, волей-неволей покрываешься мурашками. Второе: он совершенно не умеет тихо ходить. По большей части из-за протеза, наверное. Поэтому когда рано утром Пит встает, спускается вниз и гремит посудой на кухне, я непременно просыпаюсь. Ну, и «любимое»: Пит имеет обыкновение не закрывать дверь, когда идет в ванную. Это пугает меня больше всего. Вот как сейчас.
- Пит! – взвизгиваю я, смотря на мокрую спину соседа.
Краснею и бледнею одновременно, не могу ничего с собой поделать: природная скромность берет свое. Пит оборачивается и удивленно пялится в ответ.
- Ты чего здесь? – в голосе искреннее недоумение.
- Это
ты чего?! Опять не закрыл дверь!
Пит хлопает глазами и переводит взгляд на дверную ручку.
- Извини, я просто... просто привык жить один. Обещаю, больше это не повторится.
- Вообще... – фырчу я и деланно спокойно выхожу из ванной, еле удерживаясь от того, чтобы не броситься со всех ног.
Терпеть не могу это: чувствовать себя растерянно! А именно так я себя и чувствую, смотря на мужское тело в белой пене. Мы через столькое прошли вместе: огонь, воду и медные трубы преодолели, но все это летит в тартарары при взгляде на Пита. Я по-прежнему смущаюсь, совсем как тогда, у реки. Я безнадежна.
Усердно орудую ложкой, когда Пит спускается к ужину и садится рядом. От него пахнет шампунем, волосы все еще влажные. Упорно изучаю свою тарелку, стараясь не замечать его движений: как Пит разламывает хлеб, зачерпывает рагу и несет ложку ко рту. Перед глазами все еще стоит картина в ванной, и я злюсь на него за рассеянность.
- Как прошел день? – в голосе доброжелательность, делает вид, будто ничего не произошло.
- Нормально.
- В лесу сейчас, наверное, здорово.
Летом в лесу замечательно! Хотя я люблю его в любое время года, там никогда не умрешь с голоду: можно собирать ягоды, грибы, охотиться, ловить рыбу. На ум сама собой приходит мысль: почему бы как-нибудь не взять Пита с собой? Отвести в наше с отцом любимое место, к озеру. Я могла бы поставить сеть, наловить рыбешки, Пит - накопать съедобных кореньев в озере: китнисс. Именно это растение и дало мне имя. Если китнисс запечь, на вкус он как картофель. Было бы здорово. Но тогда я не смогу сбежать, если Пит заговорит
о Ней, а он не упустит возможности.
Отметаю эту мысль, мычу что-то неопределенное и набиваю рот рагу. Быстрее бы поесть и подняться в комнату. Теперь я только тем и занимаюсь, что стараюсь без причины не попадаться Питу на глаза. Почему избегаю? Потому что периодически Пит пытается вывести меня на разговор по душам. А еще смотрит: внимательно и с сочувствием. Это злит! Его взгляд будто говорит: «Я понимаю, как тебе тяжело, если захочешь поговорить, просто дай знак, я всегда рядом, чтобы выслушать». От этого немого участия я чувствую себя некомфортно. Кошмары все еще посещают меня, сердце заходится от каждого подозрительного шума, а глаза инстинктивно ищут угрозу. Но когда я вскакиваю ночью, крича от ужаса, то почти сразу попадаю в теплые объятия Пита, или ловлю на себе успокаивающий взгляд за ужином. Ради этих моментов я готова мириться практически со всеми его «особенностями» и терпеть сочувствующие вздохи. Надеюсь, Пит не жалеет о переезде, и жить под одной крышей со мной ему хотя бы чуточку спокойнее, чем одному.
Раздается стук в дверь, Пит идет открывать. На пороге Хеймитч, и как всегда к ужину. Я немного расслабляюсь, когда слышу его голос: теперь Пит не решится доставать меня.
- Как дела, голубки? – ухмыляется бывший наставник, и я машинально бешусь. После того, как Пит переехал ко мне, Хеймитч то и дело намекает на «что-то большее».
- Как раз ужинали, проходи, - в голосе Пита недовольство: он не любит подобные шутки.
После возвращения тема навязанных Капитолием отношений вызывала в нем, да и во мне лишь усталость. Люди все еще воспринимали нас как пару, задавали вопросы, сочувствовали. Наверное, в глазах жителей Панема мы навсегда останемся «несчастными влюбленными из Дистрикта-12», на самом же деле... Мы никогда не говорили с Питом об этом. Да и зачем? Обоим понятно: то, что установилось между нами еще со времен первых Игр, гораздо больше влюбленности или дружбы. Это – привязанность, необходимость друг в друге, которая останется с нами на всю оставшуюся жизнь. Хорошо это или плохо.
Хеймитч рассказывает о том, что был в городе, видел, как разгружали вагоны: Капитолий оказывает Дистриктам гуманитарную помощь. Двенадцатый нуждается не меньше других: в стройматериалах, продуктах, лекарствах, да и просто в рабочих руках. Смотрю на Пита, тот слушает Хеймитча с воодушевлением. В Двенадцатом и в былые времена было мало ремесленников, а уж теперь!.. Кроме Пита пекарей не осталось, то же самое с каменщиками, плотниками, швеями. Мой народ вымирает.
-4-
Я иду по главной дороге в сторону Шлака, светит солнце. Изнываю от жары, во рту пересохло, кожа горит – настоящий ад. А затем, словно мираж, впереди показывается школа, и я, наконец, понимаю, чем вызвана такая жара: школа горит. Полыхает от подвала до третьего этажа. Языки пламени вырываются из разбитых окон, лижут крышу, шипят и коптят небо.
- Китнисс, Китнисс! – слышится сквозь треск пожара.
Это голос Прим. Я бросаюсь к школе со всех ног:
- Прим, это ты?! Прим!
Прим жива? Но как? Как это возможно? Мне же сказали... А вдруг обманули? Вдруг нарочно спрятали Прим, объявили умершей, чтобы вынудить меня убить президента Сноу! Мог Плутарх пойти на такое? Мог. Он ведь распорядитель Игр!
- Китнисс! Китнисс!
Я мечусь вокруг горящей постройки, обливаюсь пóтом, глаза жжет от дыма, легкие наполняются жаром и копотью.
- Прим! При-и-м!
На плечо ложится чья-то рука, и я вскрикиваю от неожиданности:
- Папа?! Ты тоже жив?
Отец указывает куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь. Вокруг полыхает пожар: вход в шахту, Котел, пекарня, Дом правосудия. А за мной выжженными проплешинами вьются огненные дорожки-шаги.
- Зачем ты сделала это? – сурово спрашивает он.
- Это не я! – кричу в ужасе. – Это не я!
- А кто же тогда? Ведь ты – Огненная Китнисс. Или нет?
Видеть в его глазах осуждение - мучительно больно. Обхватываю себя руками, словно защищаясь от его слов, и только тогда понимаю, что рук у меня нет, вместо них выросли крылья: огромные огненные крылья, от которых идет нестерпимый жар, а воздух плавится и мерцает на кончиках перьев. Лицо отца вдруг покрывается волдырями ожогов, кожа начинает отходить от черепа, отваливаться обугленными кусками. Он не кричит, не зовет на помощь, только осуждающе смотрит. Затем валится на землю обугленным скелетом, а где-то в школе все кричит и кричит Прим, запертая за стеной огня:
- Китнисс! Китнисс!
Я кидаюсь прямо туда, прорываюсь сквозь пламя, ищу ее, зову, а потом вижу, как прямо на меня бежит горящий факел с голосом моей сестры. Школьная форма полыхает, огонь охватил Прим полностью: волосы дымятся и осыпаются, ткань школьной формы расползается. Она проносится мимо, и я бегу следом, выскакиваю на школьный двор, прыгаю вокруг и не знаю, что предпринять. Огненные крылья не слушаются, я только нагнетаю горячий воздух, добавляя жара. Я ничем не могу помочь сестре. Прим кричит от боли, размахивает руками, беспорядочно мечется, ища спасения. А потом затихает, падает на колени и утыкается лицом в щебенку. Я тянусь к недвижному телу сестры, трогаю кончиками перьев, зову по имени, но она мертва. Из моей груди вырывается то ли рев, то ли вой, так стонут раненые животные, когда стрела вспарывает шкуру. В ответ - шепот, будто сотни голосов разом откликнулись:
- Китнисс... Сойка... Китнисс...
Я оборачиваюсь, только сейчас замечая стоящих неподалеку людей: жители Двенадцатого заполняют собой крыши соседних построек, главную дорогу, выглядывают из разбитых окон, и все они горят: кто полыхает факелом, кто уже походит на черный уголек, прислонившийся к стене в немом крике. Я сожгла их всех.
Просыпаюсь с криком: «Это не я!», барахтаюсь в кровати и заматываюсь в одеяло. Спросонья комната кажется незнакомой, и я не сразу понимаю, где нахожусь. Затем в спальню врывается Пит. Дверь отлетает к стене, а он замирает в проходе, пытаясь в темноте разглядеть, что произошло.
- Пит, – зову я. Он садится рядом. - Мне такое приснилось...
- Что?
- Не хочу говорить, - я цепляюсь за него, пальцы не слушаются.
- Что я - переродок? – голос Пита ровный, бесстрастный. – Или что ты – Огненная Китнисс?
Я сразу узнаю эту ледяную интонацию: так Пит разговаривал со мной сразу после возвращения из Капитолия, охморенный, напичканный лживыми воспоминаниями обо мне. Инстинкты берут свое: я отодвигаюсь от Пита и тут же ловлю на себе его хищный взгляд. Не может быть!
Пытаюсь вскочить с кровати, но Пит хватает меня поперек тела и роняет обратно. Я кричу и вырываюсь, но уже слишком поздно: обеими руками Пит сжимает мою шею и душит, душит, душит. Я пытаюсь кричать, но из горла доносится только странное бульканье, слюна течет по подбородку. Я смотрю в искаженное злобой лицо Пита: вена на лбу вздулась от напряжения, глаза лихорадочно сверкают, губы сложились в победную ухмылку, а потом наступает темнота. Кажется, я умираю...
Просыпаюсь, словно от толчка, лежу и смотрю в потолок. Незнакомое оцепенение сковывает тело, горло саднит, будто холодные руки Пита все еще сжимают его. Но в комнате я одна. Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя. Понемногу мышцы расслабляются, и стягивающие тело цепи исчезают. Я делаю один глубокий, хриплый вздох. Ощупываю шею и закрываю глаза. Перед мысленным взором все еще стоит разъяренное лицо Пита. Меня накрывает озноб. Вылезаю из кровати и плетусь на кухню, чтобы выпить воды. На часах почти шесть утра. Минут через десять вниз спускается Пит.
- О, ты сегодня рано встала, - он зевает и ерошит пальцами волосы. – Все хорошо?
Я недоверчиво смотрю на него, ночной кошмар все еще не отпускает меня. Пит кажется таким же, как всегда, но что-то внутри меня неосознанно сжимается, когда он берет нож, чтобы нарезать хлеб для тостов.
- Чего молчишь? – Пит оборачивается и бросает на меня быстрый взгляд. – Все хорошо?
- Ага, - я делаю вид, будто пью воду, хотя моя чашка пуста.
- Я не слышал ночью криков. Сегодня обошлось без кошмаров?
- Ага.
- Отлично.
Пит выпивает назначенные доктором Аурелиусом таблетки, жарит тосты и бросает на меня ободряющие взгляды. Я кисло ухмыляюсь в ответ. Червячок сомнения внутри понемногу начинает вгрызаться в пласт моего доверия к Питу...
-5-
Это снова произошло.
Перетекающий из одного кошмара в другой сон: убийца-Пит, оцепенение и немота. Не понимаю, что творится со мной, но почти каждую ночь я просыпаюсь в страхе и не могу пошевелить и пальцем. Пит решил, что мне становится лучше, раз я перестала кричать. Я молчу о правде, не хочу расстраивать его и... кое-что еще. Кажется, я начинаю бояться Пита. Последние дни я запираю на ночь спальню и более внимательно прислушиваюсь к бессвязному бормотанию, которое доносится из его комнаты. Пит как всегда озвучивает вслух то, что делает. Рассуждает о планах на следующий день, что-то негромко напевает. Ничего необычного, подобное уже давно не удивляет меня. Но в одну из ночей случается кое-что странное...
Я просыпаюсь незадолго до рассвета, аккуратно выхожу из спальни и на цыпочках иду к туалету, чтобы не разбудить Пита: полы у нас адски скрипят. За окном все еще разливается ночь, завывает ветер, слабый бледно-желтый свет поднимается вверх по лестнице из коридора: мы всегда оставляем его включенным на входе. Я плотнее кутаюсь в шаль, накинутую на плечи, по рукам бегают мурашки.
- Китнисс... – вдруг доносится из спальни Пита. Я замираю: все-таки разбудила. – Китнисс... – снова зовет Пит.
Я решаю заглянуть к нему, вдруг что-то важное. Комната Пита утопает во мраке, лишь тусклый свет ночника рассеивает ее у самой кровати. Пит никогда не выключает свет, впрочем, как и я. После Игр. Не могу спать в темноте, а еще – спиной к окну или двери. Мне нужно видеть все проемы, через которые можно войти.
- Ты... – шепчет Пит, когда я аккуратно вхожу и встаю около косяка. – Китнисс...
Пит лежит на кровати, глаза его закрыты. Выходит, он просто звал меня во сне, и, судя по испарине на лбу, сон этот далеко не из хороших.
- Китнисс...
Я подхожу ближе и склоняюсь над ним. По опыту знаю: лучше разбудить, чем ждать, пока проснется сам, оцепеневший от ужаса. Что он видит сейчас? Как меня пытают? Держат в клетке? Насилуют?
- Ты – чудовище! – вскрикивает Пит и хватает меня за руку с такой силой, что я взвизгиваю от испуга, смотря в стеклянные голубые глаза. Которые в этот момент глядят куда-то вглубь меня. Глядят, но не видят.
- Нет, Пит, нет... – от страха мой язык прилипает к нёбу, я кое-как проталкиваю слова сквозь губы. – Я не чудовище. Злые люди внушили тебе это. Обманули. Они хотели разлучить нас. Помнишь?
- Ты не чудовище, - словно под гипнозом повторяет Пит. – Злые люди... обманули... разлучили...
Его пальцы соскальзывают с моей руки, Пит закрывает глаза и поворачивается на бок. Несколько секунд я стою, будто вкопанная, и пытаюсь унять стучащее где-то в районе висков сердце. Мне до того страшно, что живот сводит судорогой. Я вспоминаю, что собиралась в туалет, но единственное чего я сейчас хочу – это как можно быстрее оказаться в собственной комнате. Разворачиваюсь и, стараясь не издавать ни звука, крадусь в коридор.
- Китнисс... – вновь стонет Пит, когда я уже берусь за дверную ручку. – Тогда
кто чудовище? Я?
Пулей выскакиваю из его комнаты, бегу к себе, закрываю дверь и для надежности прижимаюсь к ней спиной. Еще долго я стою, прислонившись ухом к двери, и прислушиваюсь, тщетно ища среди ночных звуков шаги Пита, идущего, чтобы придушить «Сойку-Пересмешницу».
-6-
Кричу: «Переродки! Переродки!» и вскакиваю в кровати, продолжая визжать от испуга. Лицо Катона, которого псы-мутанты рвут на части, стоит перед глазами. Я вою и мну пальцами одеяло.
- Китнисс?! – почти сразу доносится из коридора. Дверную ручку кто-то крутит и дергает из стороны в сторону. - Как ты? Я сейчас. Что-то с дверью. Кажется, ручку заклинило!
Это - Пит.
- Уходи! – кричу я. – Уходи!
- Погоди.
- Не надо! Уходи!
Но Пит не слышит моих просьб и со всей силы наваливается на дверь.
- Черт! Никак не открыть. Ты в кровати? Если нет, отойди от двери.
- Уходи! – вою я.
Раздается треск: со второго пинка Пит вышибает дверь и залетает в комнату. Замирает в дверях, оценивает обстановку, видит меня на кровати и облегченно выдыхает.
- Опять, – еле слышно шепчу я. - Явился, чтобы придушить меня.
Я прекрасно знаю это сочувствующее выражение на его лице. Каждый раз одно и то же. Сначала он прикидывается нормальным, предлагает помощь, свои утешения, а потом набрасывается на меня. Это не Пит стоит сейчас передо мной, это – капитолийский переродок. Но в этот раз я готова и не куплюсь на его лживое сострадание. Вскакиваю и хватаю с тумбы лампу.
- Китнисс? – Пит щелкает выключателем, и комнату заливает свет.
Я держу лампу на манер дубинки, переступаю с ноги на ногу, готовая кинуть ее при малейшей опасности. Пит замечает мое «оружие» и изумленно моргает.
- Ты чего?
- Не подходи, - Пит шагает вперед, и я кричу что есть мочи: - Не подходи!
Пит поднимает руки ладонями вверх, показывая, что не представляет опасности.
- Я слышал крики. Ты в порядке?
- Какая забота.
Пит обводит взглядом мою спальню.
- Тебе снились кошмары. Я понял. Хочешь, побуду с тобой, пока не заснешь?
- Зачем? Чтобы перерезать горло во сне?
Лицо Пита бледнеет, он облизывает губы и глухо выдыхает:
- Тебе просто нужно успокоиться.
Хорошо играет! Я могла бы поверить, если бы не знала, зачем он здесь. Волна боли в очередной раз захлестывает меня: почему мой убийца именно Пит? Почему не Финник, не Боггс? Кто угодно из погибших по моей вине?! Пит единственный, кто прошел через тот ад вместе со мной и остался в живых. Это слишком несправедливо!
Меня трясет, лампа в руках мигает, и я кричу в забытьи:
- Ты не получишь меня снова, слышишь?! Я вижу тебя насквозь! Только сунься, и я размозжу твою башку этой лампой! Понял, ты, капитолийский переродок?!
Пит делает шаг мне навстречу, лицо смято непонятным чувством, и я швыряю в него лампу. Пит инстинктивно пригибается, лампа ударяется в стену, осколки разлетаются во все стороны. Я, пользуясь ситуаций, выбегаю из комнаты, бросаюсь по лестнице вниз, толкаю дверь. Теплая летняя ночь принимает меня, как родную. Я бегу, что есть сил, сама не знаю куда. Лишь бы подальше от дома, от ненавидящего меня Пита, от своего прошлого. Этот сон самый реальный, все ощущается еще острее, чем раньше: трава на луговине хлещет по голым ногам, из леса доносится уханье совы, легкие саднит от долгого бега. Наконец, изможденная падаю в траву и реву, свернувшись калачиком. Не могу больше, не могу... Эти кошмары сводят меня с ума! Нужно было оставить себе капсулу с морником. Но ведь если умереть во сне, я проснусь в реальности, верно? Каждый раз, когда Пит добирается до меня, именно так и происходит.
Сажусь и оглядываюсь, завороженная этой мыслью, ищу хоть что-нибудь, чем можно убить себя. Но вокруг только поле. Серебряные в свете луны травы еле заметно колышутся, шепчут: «Китнисс, Китнисс...» Будто это Прим говорит со мной. Но она мертва.
Встаю и иду обратно в Деревню Победителей, на этот раз я никуда не спешу, гляжу по сторонам. Сон с удивительной точностью воспроизводит окружающую обстановку, даже штабеля напиленных деревьев, которые пойдут на восстановление центра. Но сегодня полнолуние, ничего удивительного... Я не боюсь встретить Пита, рыскающего по окрестностям, чтобы убить меня. Я и сама с блеском справлюсь. Это нетрудно. У меня есть план. Я разбиваю окно и залезаю в бывший дом Пита, поднимаюсь на второй этаж, спускаю лестницу на чердак и карабкаюсь вверх. Дома у нас одинаковые, только стоят друг против друга, но меблировка и расположение комнат идентичные, не заблудишься. Из чердака через маленькое смотровое окно лезу на крышу. Свежий ночной ветер играет с волосами, когда я, пройдя по карнизу, поднимаюсь на самый верх. Здесь метров восемь, а то и все десять, этого должно хватить. Я планирую разбиться в лепешку, а потом проснуться в своей кровати.
Подхожу к краю и смотрю вниз: идеально. На земле валяются обломки: то, что осталось от соседнего дома, когда Капитолий разбомбил Двенадцатый. Каменные глыбы лежат на траве серыми острыми громадинами. Делаю вдох, набираясь смелости. Смотрю в небо, на чернеющий вдалеке лес, на собственный дом и горящее окно спальни. Там Пит. Я вижу его очень отчетливо. Он сидит на полу, обхватив руками колени, и мерно раскачивается, что-то бормоча. Я напрягаю зрение, пытаюсь прочесть по губам. Не то, чтобы это имело значение, скорее всего он говорит о том, как ненавидит меня, но мне интересно. Наконец, я начинаю разбирать слова: «Дистрикт Двенадцать... Голодные игры... Пекарь... Пленник... Охмор». Я охаю и почти теряю равновесие от неожиданности: я столько раз слышала, как он произносит эти слова во время приступов, что выучила наизусть. Он повторяет их, словно молитву: «Я Пит Мелларк. Я из Дистрикта Двенадцать. Я - пекарь. Я - художник. Я выиграл семьдесят четвертые Голодные Игры. Я попал в плен на Квартальной Бойне. Меня пытали и охморили в Капитолии. Сейчас я в стадии ремиссии. Я Пит Мелларк. Я из Дистрикта...» И так по кругу, пока полностью не успокоится. Но Пит
никогда не говорит подобного в моих кошмарах. Да и зачем капитолийскому переродку убеждать себя в том, что он пекарь и художник, если единственная его цель – выполнить задание президента Сноу: убить Сойку-Пересмешницу?
Реальность обрушивается на меня подобно волне, утаскивает на дно и топит в чувстве вины. Как можно быть такой дурой, Китнисс?!
- Пит! – кричу я, но он не слышит, продолжает раскачиваться и шептать свою молитву. - Пит! Пит!
У меня была похожая после Квартальной Бойни. Ее придумал доктор Аурелиус, и Питу тоже. Я бегу обратно: вниз по лестнице, через газон между нашими домами, врываюсь в спальню и падаю рядом.
- Пит, прости меня!
Он молчит, продолжая раскачиваться. Тогда я беру Пита за руку, отрывая сжатые пальцы от колен, и повторяю:
- Прости меня, Пит. Я думала, что все еще сплю. Что ты – очередной мой кошмар. Я не считаю тебя переродком, и никогда не считала.
Пит не реагирует, раскачивается и безмолвно повторяет:
- Я Пит Мелларк. Я из дистрикта Двенадцать...
Я снова зову его по имени, извиняюсь, пытаюсь заглянуть в глаза, но все безуспешно: Пит напрочь завяз в своих кошмарах. Я не могу вытащить его оттуда, как не стараюсь. Чувствую себя хуже некуда, виню в произошедшем и вдруг в панике кричу то, от чего бегу последние полгода:
- Клянусь памятью Прим! Прим! Слышишь?!
Пит замирает и переводит на меня взгляд. Глаза и нос у него красные, щеки мокрые от слез. Знаю: своими словами я ударила его по самому больному. Я ненавижу себя за это. Я
в принципе ненавижу себя, но сейчас особенно.
- Простишь? – шепчу с надеждой, заискиваю, пытаюсь вложить в голос всю нежность и раскаяние, на которые способна. Я не богач в этом плане, но отдаю все, что имею. Лишь бы взял...
Пит долго смотрит на меня, потом кивает и тянет руки. Я проворно прижимаюсь к его боку, греюсь. Пит теплый, как печка. Всегда таким был. С ним хорошо. Несмотря ни на что.
На ум само собой приходит воспоминание: я и Пит, в пещере. Он мучится от жара, вызванного раной, а я сижу в темноте и смотрю на неуклюже замаскированный вход. Катон с Миртой рыщут поблизости. Время тянется медленно-медленно, меня морит сон. Держусь, как могу. Но холод все-таки загоняет меня в спальный мешок к Питу. А там тепло... Так тепло и хорошо, что я непроизвольно успокаиваюсь, прижимаюсь к его горячему боку, и на душе становится чуточку легче.
Улыбаюсь, вспоминая это – «играю», как советовал доктор Аурелиус, ища положительное даже в самом отрицательном.
- Я любил Прим... – вдруг тянет Пит, и внутри меня будто разрывается бомба, поднимая в душе черную волну безысходности.
- В июле ей исполнилось бы четырнадцать.
Пит поворачивает ко мне лицо, в его глазах я вижу сожаление, и это окончательно выбивает меня из равновесия. Мне тошно и страшно. Я чувствую, что иду ко дну: перед глазами стоит Прим. Ее последний взгляд вновь тянет меня вниз, будто привязанный к ноге камень, я тону... тону в своем горе. Но из последних сил цепляюсь за рукав Пита, как за спасительную соломинку. Он больше не плачет, лишь нервно вздрагивает, сжимая меня в объятиях, и снова заводит свою песню. Я подпеваю. Мы мерно раскачиваемся, обнявшись:
- Я Китнисс Эвердин. Я Пит Мелларк. Мы из дистрикта Двенадцать. Мы выиграли семьдесят четвертые Голодные Игры...
Я просыпаюсь после полудня, судя по тени, которую отбрасывает рамка с фотографией отца, сейчас около двух часов дня. Меня обвивают руки Пита, мы так и заснули, сидя на полу, и теперь это кажется мне проблемой: тело затекло от неудобной позы, хочется потянуться, размять мышцы, но я боюсь разбудить Пита, поэтому терплю и считаю осколки на полу: один, два, три... двенадцать. Лампе хана, уже не починишь.
Пит просыпается через полчаса или около того, откатывается назад и, наконец, говорит:
- Привет.
- Привет.
- Вот это ночка, да? - Пит чешет нос, затем смотрит на осколки: - Лампе хана.
Я смеюсь, он тоже. Смех лечит нас, успокаивает расшатанные нервы. Мы встаем и идем на кухню. Доедаем вчерашние булочки с сыром – мои любимые – пьем мятный чай. Пит кажется таким же, как всегда. Но я знаю: он все еще крутит в голове мои вчерашние слова, ранит себя раз за разом, винит в том, за что не в ответе. Я отвратительна.
- Ты можешь сегодня прогулять стройку? – вдруг говорю я. – Хочу показать кое-что.
- Что? – Пит выглядит заинтересованным, и я чувствую облегчение.
Подобные решения всегда даются мне с бухты-барахты. Зарекалась ведь, что ни за что не останусь с Питом наедине, а сегодня, на тебе. Мы набираем еды, воды во фляжку и выходим из дома. В лесу я как дома: знаю все тропки, ориентируюсь лучше, чем в городе. Лес – мое убежище, а сегодня и убежище Пита. До озера путь неблизкий, но мы никуда не торопимся, идем не спеша. Я провожу для Пита экскурсию: рассказываю о животных, которые водятся в наших краях, показываю силки на птиц, учу его ориентироваться и искать воду. Конечно, я опоздала с уроком, но Пит слушает с интересом, задает вопросы. Я говорю почти без остановки. Не помню, когда мы разговаривали так долго в последний раз, наверное, еще до Квартальной Бойни. На место добираемся к пяти часам. Запах влаги слышится издалека, и Пит улыбается, указывая на озерную гладь блестящую между деревьев. Я киваю:
- Дошли.
День на удивление солнечный, теплый, будто специально созданный для прогулок. Вода искрится на поверхности, плещет о берег, манит, и мы поддаемся: раздеваемся и бежим купаться. Пит плохо плавает, я пыталась учить его на Квартальной Бойне, но это было скорее прикрытием, чем настоящим уроком. Я наверстываю упущенное сейчас. Пит не против, охотно повторяет за мной, у него хорошо получается. Мы плещемся в озере не меньше часа, вылезаем только тогда, когда солнце начинает опускаться за лес. Нужно обсохнуть, да и отдохнуть перед обратной дорогой. Мы сидим на большом нагретом солнцем валуне и смотрим на мерцающую водную гладь. Плечо Пита, испещренное шрамами, прижимается к точно такому же моему. Мы до удивления похожи.
- Тебе что не предлагали регенерацию? – спрашиваю я.
После взрыва у Президентского дворца я провалялась под капельницами несколько недель. Капитолийские врачи долго боролись за мою жизнь: делали переливание крови, пересадку кожи, частичную регенерацию моей собственной. Площадь поражения была слишком велика, я почти сгорела заживо, но меня вытащили на этот свет. Первые месяцы после «воскрешения» я люто ненавидела их за это, лучше бы мне позволили умереть, чем существовать в том аморфном состоянии, что я пережила после смерти Прим. Сейчас... Наверное, я уже смирилась с тем фактом, что проживу намного дольше, чем собиралась изначально. Насколько мне известно, всем выжившим Победителям полагалась реабилитация в Капитолии: лечебные процедуры, частичная или полная регенерация, чтобы свести полученные на Играх или во время Революции шрамы, комплексный уход.
- Предлагали, - говорит Пит, смотря на воду. – Я отказался. А зачем? Вот если бы они предложили мне «регенерировать мозги», я, быть может, еще и подумал бы. А так... – он грустно усмехается. – К тому же... Когда я смотрю на эти шрамы, то сразу вспоминаю о том, кто я есть на самом деле, - Пит поворачивает голову и глядит на меня. – Я – пленник Капитолия, я – подопытная крыса, на которой Сноу ставил свои эксперименты. А еще я – победитель, пекарь и художник. Пусть так и будет.
Мне нечего ответить на это.
- А что, я тебя пугаю? – он усмехается и нарочно осматривает себя.
На левой ноге биомеханический протез, на руках и плечах Пита следы заживших ожогов – последствия взрыва у президентского дворца, на спине несколько длинных, рванных порезов – по всей видимости, следы пыток, на груди и животе круглые шрамы в виде точек и полумесяцев – будто об него тушили окурки, а быть может, и что-то другое. Пит никогда не рассказывал мне о том, что с ним делали по приказу Сноу. А я никогда не спрашивала.
- Нет, - я разворачиваюсь и демонстративно показываю
свои шрамы. – А я тебя?
Я сама изуродовала себя после убийства президента Койн, когда пыталась отбиться от охранников: новенькая только что наращенная кожа лопнула и слезла с меня рваными лоскутами, навсегда оставив на своем месте шрамы.
- Не-а, - Пит грустно усмехается. – Мы с тобой, как твоя лампа: разбитые на десятки осколков и склеенные заново.
- Сомневаюсь, что ее еще можно починить.
- Но ведь нас починили.
- Ты думаешь?
Пит молчит, теперь
ему нечего сказать. Починили... Ну, да. В какой-то степени починили. Наше тело. Собрали заново мышцы, нарастили кожу, вживили новые волосяные луковицы. Но есть то, что «починить» просто невозможно – это наши души. Мне кажется, даже время тут бессильно. Я никогда не забуду того, что видела на Играх. Того, что пережила после смерти Прим. А Пит никогда не забудет свою одиночную камеру в тренировочном центре и крики Джоанны за стеной. Эти воспоминания с нами навсегда. До самой смерти.
- А этот шрам от тебя, - Пит показывает мне кисть, на которой виднеются следы от зубов.
После убийства президента Койн я попыталась проглотить морник, но Пит успел подставить руку, и вместо того, чтобы раскусить капсулу, я вцепилась зубами в его ладонь, прокусив до крови. Как же я ненавидела его в этот момент... за то, что не дал мне умереть.
- Выглядит не хуже остальных, - замечаю я, и Пит улыбается. Как не странно, ему нравится мой злой юмор. – Давай собираться.
Мы одеваемся и достаем из сумки еду.
- Я бы построил здесь дом, - говорит Пит, когда мы жуем бутерброды с сыром. – Прямо там. Чуть выше скал, - он указывает рукой. - Сделал бы лестницу к воде, причал. Так дом не зальет во время паводка. Что думаешь?
- Это... здорово, - у меня напрочь пропадает аппетит, бутерброды встают колом в горле. – Мой отец мечтал об этом.
Пит поворачивает ко мне лицо. Удивление в его глазах почти сразу сменяется тревогой: я знаю, что он видит.
- Китнисс?..
Не хочу сейчас говорить об отце. Не хочу разговаривать
в принципе, но Пит не готов так легко сдаться, и когда я встаю, чтобы уйти, хватает меня за руку.
- Погоди. Расскажи мне о том, что с тобой происходит.
- Ничего.
- Это - ложь, - заявляет Пит. – Тебе стало хуже, верно?
Я молчу и сверлю взглядом камень, на котором он сидит.
- Тебе снятся кошмары, я знаю. Не такие, как прежде, другие. Такие, как у меня. Я почти уверен. Я умею их различать. Но почему-то ты скрываешь это... Почему? Тебе снится что-то особенное? Такое, о чем нельзя сказать мне? - взгляд Пита такой цепкий и внимательный, что, кажется, будто он смотрит прямо внутрь тебя: - Тебе снюсь я? Верно?
Я отрицательно трясу головой.
- Тогда почему в последнее время ты так странно смотришь на меня?
- Как?
- Настороженно.
- Не хочу говорить об этом, - я вырываю руку из его пальцев и собираюсь уйти, но Пит встает следом и снова берет мою ладонь в свою. – Я сказала: нет!
Я начинаю злиться из-за того, что притащилась к озеру с Питом. Ведь знала же, что этим все и закончится. Мы ругаемся. Точнее ругаюсь я, Пит просто молчит и держит меня за руку, даже когда я называю его «прилипалой», велю собирать вещи и «уматывать к себе». Ненавижу, когда он так делает! Это вынуждает меня чувствовать вину. Особенно после вчерашнего. В душе вновь поднимается горечь. Я вспоминаю наиболее частый за последние недели кошмар: горящую Прим, рассыпающегося в прах отца, ненавидящего меня Пита и начинаю шмыгать носом. Сама не понимаю, как так выходит, но я уже сижу рядом с ним и хныкаю, уткнувшись в мужское плечо.
- Расскажи мне все, - просит Пит, и я выдавливаю сквозь слезы:
- Мне снилось, будто ты... совсем не ты. Будто Сноу победил.
Пит понимающе кивает.
- Я делал что-то нехорошее в тех снах? Душил тебя?
- Да.
Я чувствую неловкость и стыд, я не хочу расстраивать Пита своими словами, но и соврать не могу. Да и какой в этом прок! Пит все равно поймет, если вздумаю хитрить.
- Почему сразу не сказала? Боялась?
- Не хотела расстраивать.
Пит хмыкает и грустно улыбается:
- Зря. Я бы помог тебе справиться с этим.
Я пристыжено опускаю голову.
- Я говорил с доктором Аурелиусом по поводу своих кошмаров. Знаешь, он считает, что убийство, так же как и все, что мы видим во сне, идет корнями из реальности. Если ты видишь, что кто-то убивает тебя или ты убиваешь кого-то, скорее всего в настоящем у тебя неразрешенные проблемы с этим человеком. Он вызывает у тебя негативные эмоции, неприязнь.
- Ты не вызываешь у меня неприязнь.
Это - правда. Я не испытываю к Питу отторжения. Настороженность, небольшое недоверие из-за того, что в любой момент его может переклинить, это да. Но о презрении или ненависти речи точно не идет.
- Но ты чувствуешь некоторый дискомфорт от моего присутствия, верно? – Пит говорит совершенно спокойно, кажется, мое признание не обидело его. – Возможно, дело в том, что мы решили жить вместе? Может мне стоит вернуться к себе? Наверное, я стесняю тебя, в чем-то ограничиваю.
- Нет, ты что!
Сама мысль вновь оказаться одной поднимает во мне нешуточную панику. Я не хочу, чтобы Пит съезжал. Даже не смотря на кошмары.
- Тогда в чем дело?
Я молчу и кусаю нервно губы, Пит смотрит на меня несколько минут, а потом говорит:
- Дело в Прим, да? – я вздрагиваю, и он убеждается в собственной правоте. – Ты боишься, что я стану допытываться, буду «лезть в душу», как тогда.
Тогда – это сразу по возвращении в Двенадцатый. Первое время Пит действительно пытался вывести меня на разговор о сестре, но после нескольких ссор на эту тему, отступился.
- Давно начались кошмары?
- Больше месяца назад.
- Как раз перед днем рождения Прим... – рассуждает Пит. – По-моему, причина в этом. Боль внутри тебя ищет выход, но ты сопротивляешься, отвергаешь ее. А нужно принять. Пережить и отпустить. Ты понимаешь?
Я киваю.
- Хочешь поговорить об этом?
- Нет.
Пит тяжело вздыхает и гладит мою ладонь.
- Придется, Китнисс. Расскажи мне о ней. О том, что ты почувствовала после того, как ее не стало.
Я отрицательно трясу головой. Не хочу говорить о Прим. Просто не могу.
- Думаю, тебе было очень больно. После смерти отца, сестра стала главным человеком в твоей жизни. Ради нее ты готова была на все: умереть не раздумывая. Но вышло иначе. Это она умерла, а ты осталась жить.
Меня начинает трясти. Я знаю подобный тип дрожи: это паника тянет ко мне свои холодные липкие руки. Пит говорит именно то, о чем я думаю последние месяцы, будто может читать мысли. Он
слишком хорошо знает меня.
- Прим не должно было быть возле президентского дворца, ты оставила ее в Тринадцатом, в безопасности, - я согласно трясу головой, все сильнее впиваясь в руку Пита пальцами. – Ты все предусмотрела, ты оберегала ее, как могла. Но она все равно мертва. Ей было бы четырнадцать... Что ты сделала не так? В чем просчиталась?
- Не понимаю, как такое могло произойти! - не выдерживаю я. - Почему Прим? Почему? Она ведь и мухи не обидела. Вечно всем помогала: таскала домой бродячих собак, кошек. Лечила их, прикармливала. Самим жрать нечего было, а она этих!.. – я шмыгаю носом и утираю слезы. – Сначала ее имя на жетоне. Единственный раз вписанное! Как такое возможно? Я думала, что став добровольцем смогу... А выходит, что нет! Все пошло не так, как должно было. Проклятые ягоды! Нужно было съесть их. Тогда Прим и ты, вы оба не пострадали бы. Но я... как всегда все испортила. Она так плакала, когда услышала, что меня вновь вызывают на Игры. Даже представить себе не сможешь, как ревела. Нам даже попрощаться не дали. Потом бомбежка... Тринадцатый... Если бы не Гейл... Столько крови вокруг! Эта война! Эта мерзость! А она такая сильная, оказывается. Мой утенок... Смелая, добрая, умная. Она в сто раз лучше меня! И все это знают. Тогда почему она, а не я? Это несправедливо! Почему ты? Почему она? Почему не я? И что теперь? Ее нет. А я тут. Хочу умереть каждый день. А она бы жила, она бы смогла оплакать меня, отпустить и жить дальше. А я без нее не могу. А она... А я... – силы покидают меня, язык дохлой змеей падает во рту. Все. Я бесполезна.
Пит первый, с кем я говорю о сестре. Это - больно. Очень больно. Но я уже не могу молчать, слишком тяжела эта ноша... Пит не пытается утешать меня, не перекладывает ответственность на повстанцев или Капитолий, не говорит, что «смерть Прим не твоя вина» или что «на войне не обходится без случайных жертв». В общем, обходит стороной всю ту лабуду, которой пичкают выживших мозгоправы. Пит молчит и слушает, гладит меня по спине, и от этого искреннего участия мне становится до того тошно, что я уже вою раненным зверем. Икаю и шмыгаю носом, не в силах остановить поток соленой воды из глаз, а потом, когда слезы заканчиваются, затихаю и отрешенно смотрю, как заходящее солнце окрашивает верхушки деревьев багрянцем. Природа преображается на глазах, оживает после дневной жары, и я оживаю следом: чувствую хоть и небольшое, но облегчение.
- Ты должна поговорить о Прим с доктором Аурелиусом. Слышишь, Китнисс? – шепчет Пит, поглаживая мою спину.
- Ага, – бездумно отвечаю я.
- И еще... – он мнется. – Если захочешь рассказать что-нибудь, просто знай: я рядом.
- Хорошо.
Некоторое время мы сидим и смотрим на мерцающую озерную гладь. В руках Пита мне спокойно и тепло, на несколько минут я даже забываю о том, что позволила погибнуть родной сестре. Пит шумно дышит, щурится из-за отблесков воды, ерзает на жестком камне. Я невольно усмехаюсь: Пит не создан для леса, он абсолютно городской житель. Его ладони слишком мягкие, не знавшие грубой работы. Походка тяжелая – любой зверь услышит за километр. Глаза, не приспособленные к темноте - заблудится в сумерках и будет всю ночь шарахаться по лесу, еще и в яму свалится. Для Пита поход в лес – целое приключение, он не чувствует природу, как я, не понимает ее.
- Спасибо тебе, - вдруг говорит Пит. – Что взяла меня с собой. Я раньше никогда не выходил за забор. Мальчишкой хотел. Вместе с братьями. Но мать запугала нас, сказала, что в лесу водятся медведи, мол, изловят и слопают целиком, будем знать, как родителей не слушаться.
Не сдержавшись, я прыскаю:
- Глупости какие!
Пит смущенно улыбается, опускает взгляд.
- Я, наверное, не очень смелый.
Замолкаю, тянусь к нему и укладываю голову на плечо.
- Смелый. И даже
очень.
Пит прижимается к моему лбу щекой и добавляет:
- В следующий раз научишь меня нырять? Щучкой.
Я только, молча, улыбаюсь и крепче жмусь к Питу.
Этой ночью я снова подскакиваю с криком: «Рута!» и, обессилено упав на матрас, смотрю в потолок. Старые добрые кошмары возвращаются: переродки, дети у президентского дворца, двадцатиметровая волна, обрушивающаяся на Рог изобилия, горящие заживо люди... Охморенный Пит больше не снится. Видимо, мне становится «лучше». Краем уха слышу шаги: это настоящий Пит идет, чтобы успокоить меня. Что ж... Самое время.
-7-
Я возвращаюсь с охоты через город. Пекарню уже отстроили, но с открытием Пит не спешит: не хватает рабочих рук. Однако он и тут нашел решение: взялся обучать местных детишек. Я видела, как трое из них выходили из хлебной лавки, у каждого в руке был пряник с помадкой. После занятий Пит всегда дает детям сладости: балует. Для нас, вечно голодных жителей из шахтерского городка, взять в руки пряник – само по себе событие, а уж съесть... Помню, мы с Прим по праздникам нарочно слонялись под окнами пекарни, разглядывали лежащие на витрине пироги с мясом, медовые пирожные, пряники и имбирное печенье. Бурчали пустыми животами и представляли, как будто можем себе все это позволить.
Можем, но
не хотим, мол, от сладкого зубы портятся. Я люто завидовала Питу, думала, он как сыр в масле катается, а потом Пит рассказал, что его семья никогда не ела ничего свежего. Они подъедали лишь то, что никто не купил: черствые булки, заплесневелый хлеб. А если Пит или кто-нибудь из его братьев решался взять без спроса булочку, мать избивала его так, чтобы неделю не мог сесть. Скверная женщина, мне приходилось пару раз сталкиваться с ней. Зато отец у Пита был хороший, всегда покупал у меня белок, ни разу не отказал, да и платил щедро.
Внутри пекарни ремонт еще идет, на стенах подсыхает штукатурка, на полу стяжка. Я аккуратно ступаю по мосткам, перекинутым через залитые участки, и ныряю в дверь сразу за торговым залом.
- Что готовили сегодня? – интересуюсь с порога.
- Подовый хлеб, - отвечает Пит, заканчивая чистить печь.
Я согласно мычу, как самый настоящий эксперт.
- Пахнет аппетитно.
На столе, прямо возле Пита лежат золотистые буханки и пахнут так, что рот наполняется слюной.
- Ты закончил? – стараюсь не смотреть на хлеб, чтобы не урчать желудком.
- Да. Ты к Сэй? Пошли вместе.
Пит выкладывает буханки на лоток, накрывает полотенцем и несет на выход. Готова поспорить, ноша не из легких, но Пит крепкий малый: с детства таскал мешки с мукой, разгружал уголь для пекарни, наупражнялся, будь здоров. Поэтому профи и приняли его к себе: сильного, выносливого соперника до поры до времени лучше держать в союзниках.
Мы идем под сизым осенним небом, людей на улице почти нет. Половина на стройке, другая – осваивает присланное из Капитолия оборудование: в Двенадцатом запускают завод по производству лекарств. Будем лечить весь Панем! Тысяча рабочих мест – настоящий подарок для таких, как мы. Пит считает, это привлечет к нам людей из соседних дистриктов, поможет вдохнуть в Двенадцатый жизнь, если будет кров и работа, численность возрастет. Я настроена не так оптимистично, хотя будущее уже не представляется мне таким уж темным, как поначалу. Да, людям нужна уверенность в завтрашнем дне. Кто решится строить дом, открывать бизнес или рожать детей в заведомо обреченном городе? Это нам с Питом не о чем волноваться: назначенной Капитолием пенсии хватает с лихвой. А другие выживают, как могут. Поэтому я и ношу Сэй зайцев, белок, диких уток и рябчиков. Она варит из них похлебку, как в довоенное время, и бесплатно угощает всех желающих. Пит снабжает Сэй хлебом, внося свою лепту. У обездоленных жителей Двенадцатого такие вот бесплатные обеды поднимают «боевой дух» не хуже пламенных речей политиков. Что не говори, а миска горячей похлебки после нескольких часов на стройке – то, что надо. От Сэй сразу идем домой, время к вечеру, небо чернеет все сильнее, того и гляди начнется дождь.
- На вот, - Пит протягивает мне ломоть подового хлеба, завернутый в салфетку. – Голодная, наверное.
Он прав, я весь день провела в лесу, завтрак давно провалился, а с собой я ничего не брала: думала, быстро управлюсь. Я знаю, Пит нарочно отложил для меня самую вкусную часть: хрустящую золотистую горбушку. Подкармливает, хоть в этом и нет нужды. Но от этой искренней заботы на душе становится так тепло, что улыбка сама собой ползет на лицо. Уплетаю ломоть в два счета, и только потом спохватываюсь:
- А ты?
- Я в обед к Сэй ходил. Сытый еще.
Пару минут спустя начинает накрапывать дождь, и мы ускоряем шаг.
- Ух, ливанет! – Пит хмурится, глядя на небо. – Вон какая туча.
Небо полностью затянуло облаками, а с запада плывет фиолетово-черное пятно.
- Давай скорее. Побежали, – он берет меня за руку и увлекает за собой.
За двести метров до Деревни победителей дождь накрывает стеной, мы подбегаем к дому и неловко топчемся на крыльце, пока Пит пытается открыть дверь. Ключ несколько раз выскальзывает из его мокрых пальцев и падает на пол, прежде чем Пит попадает в замочную скважину. Я смеюсь и подначиваю его:
- Вот же руки-крюки!
Наконец, мы попадаем в дом и прыгаем на пороге, отряхиваясь от воды. Пит нарочно трясет головой, окатывая меня брызгами с головы до ног: мстит за «руки-крюки». Сейчас он походит на мокрого пса, и я смеюсь, наблюдая за тем, как светлые волосы хлещут его по щекам. Когда, переодевшись в сухое, я спускаюсь вниз, то нахожу Пита рядом с открытой дверью. Он тоже переоделся и теперь сидит у порога, смотря на улицу. Иду на кухню, грею чай и, взяв корзинку с печеньем, несу все это Питу.
- На, - протягиваю ему кружку. – Чего это тебя к земле потянуло?
- Не знаю... – он задумчиво улыбается. – Просто так.
Мы пьем чай, грея руки о горячие бокалы, и смотрим, как дождевые капли собираются сначала в небольшие, а потом в громадные лужи. Бывший дом Пита кажется серым и забытым, и я непроизвольно думаю, как тоскливо мне было бы в эту минуту, не будь рядом Пита. В те страшные зимние месяцы, когда я была предоставлена сама себе, не раз и не два в голове мелькала мысль: а что, если закрыть заслонку на камине и напустить в комнату угарного газа, или залезть на крышу и шагнуть вперед? Как скоро меня найдут? Сальная Сэй приходила пару раз в неделю, Хеймитч мог не показывать по нескольку дней. Холод сохранит мое тело в надлежащем виде, будет, что похоронить. Уж лучше так, чем изо дня в день лежать на диване и смотреть в стену, ощущая, как жизнь покидает тебя. Я столько раз находилась на волосок от смерти, что она уже давно не пугает меня. Да и для кого теперь жить? Единственный человек, который держал меня на плаву, погиб. Мать далеко, топит горе в работе. Гейл строит карьеру во Втором. Пит... Питу станет только легче, если я умру, не нужно будет бороться с самим собой. Кому я нужна? Не лучше ли прекратить все разом, здесь и сейчас? Смешно, но единственное, что удержало меня от суицида, это мысль о Сальной Сэй. Я была ее единственной возможностью заработка, на эти деньги Сэй кормила семью. О восстановлении центра, ее бывшей забегаловки и строительстве завода речи в ту пору даже не шло. Ну не могла я поступить так с Сэй! Вот и пришлось жить...
Перевожу взгляд на Пита. Он все еще смотрит на улицу, думает о чем-то своем. Возможно, о прошлом, а может – о будущем. Нет, скорее о прошлом. Слишком напряженное у него лицо. Не хочу, чтобы Пит погружался в недобрые мысли: это может вызвать приступ, поэтому легонько толкаю его ногой. Пит поднимает глаза, несколько секунд отрешенно смотрит, а потом улыбается: он снова со мной.
- Ты ведь это нарочно, да?
- Что?
- Раз десять уронил ключи.
Он загадочно улыбается.
- Пит!
- Ну, что?
- Зачем ты сделал это?
- Не знаю. Ты так смеялась, как будто... как будто
ничего не было. Я просто хотел... Я подумал: почему бы не продлить момент?
В этом весь Пит: порой его честность ранит больнее, чем нож. Я знаю, о чем он. Я чувствую тоже. Поэтому подползаю ближе, прижимаясь к знакомому, теплому боку. Так мы сидим до тех пор, пока не наступает ночь.
-8-
Пит шевелит палкой угли, поправляет клубни китнисса и переворачивает насаженного на прут зайца. Я сижу рядом и гляжу на озеро. День безветренный, относительно теплый. Октябрь – самый красивый осенний месяц: яркий, пряный, тихий. Ночью был дождь, и от земли идет сладковатый пар. Но запах жареного мяса перебивает все остальные: мокрой листвы и еловых шишек. Я голодна, поэтому перевожу на шипящего зайца нетерпеливый взгляд.
- Да сейчас, сейчас, - улыбается Пит.
Я вздыхаю и начинаю доставать из рюкзака остальные продукты: пряники, флягу с водой, свежий хлеб.
- Надо же, еще теплый.
Пит косится на буханку:
- Утром испек. Не спалось.
Я киваю, слышала, как он гремел посудой на кухне. Через неделю у Пита важный день: он открывает отцовскую пекарню, потому и не спит последнее время. Наконец, Пит накладывает на листы печеные клубни, куски мяса и посыпает сверху солью. Я уминаю за обе щеки: вкуснотища!
- Ты хотя бы жуешь или так глотаешь? – он тянется ко мне и стирает большим пальцем жир с подбородка. – Извозилась вся.
Я напускаю на себя строгий вид, хоть и чувствую, как щеки начинают краснеть: ничего не могу с собой поделать, я не привыкла к людским прикосновениям. Перестаю жевать и настороженно кошусь на него: вдруг снова надумает трогать.
- Ешь, - Пит кладет мне на лист еще один клубень китнисса. Дважды просить не приходится.
Мы едим в тишине, наслаждаясь звуками природы. А потом лежим, вытянувшись, на любимом валуне и смотрим вверх. Прямо над нами ветви деревьев сплетаются в замысловатый узор: красные, желтые и бурые листья шепчут что-то в вышине, словно рассказывают сказки про горных троллей и живущих на дне озера русалок. Мне хорошо и спокойно.
- Гляди, гляди! – вдруг вскрикивает Пит, указывая пальцем в сторону воды.
Я сажусь и вижу, как в небо поднимается орел, таща в когтях серебристую рыбешку, наверное, сорогу.
- Прямо камнем упал! Я даже моргнуть не успел, а он хвать! – Пит в восторге. – Вот это реакция! – потом он мрачнеет и спрашивает: - На первых Играх я подрался с Катоном, чтобы дать тебе время уйти. Правда или неправда?
- Правда.
Пит понимающе вздыхает, качает головой:
- Мне бы реакцию, как у того орла. Что проку в силе, если не умеешь применять ее должным образом?
Я не пересматривала наши с Питом Игры, но видела отрывки во время интервью победителей. Тогда мы сидели перед Цезарем Фликерманом и вынуждены были комментировать особо захватывающие моменты. Драке Пита и Катона уделили лишь пару минут. В ней не было ничего примечательного: Катон нападал, Пит оборонялся. Если бы не яд ос-убийц, Катон рано или поздно прикончил бы Пита, но у него помутился рассудок, и Катон успел только рассечь Питу ногу, прежде чем повалился без сознания на землю. Пит мог бы убить Катона его же мечом, или забить насмерть палкой, но Пит не стал. За время Игр он никого не убил нарочно, даже когда была такая возможность. Единственная жертва на его счету – трибут из восьмого, которую смертельно ранил Катон и оставил истекать кровью. Пит добил ее, чтобы прекратить мучения. Именно за милосердность, неприсущую выжившим в Играх, некоторые и называли его за глаза «случайным победителем».
Я вздыхаю и смотрю на Пита, тот разглядывает черную точку в небе: улетающего прочь орла. Глаза у Пита голубые-голубые, гораздо светлее озерной воды. Ресницы рыжие, пушистые. Лицо широкое, открытое. Его внешность идеально подходит к характеру, такая же теплая, светлая. И я непроизвольно думаю, как часто люди принимают доброту за слабость. Я тоже когда-то считала, что выживает сильнейший, с тех пор многое изменилось...
-9-
Сегодня в городе праздник: открываются первые лавки. Джек-сапожник бесплатно ремонтирует обувь, Одноглазый Роджер паяет керосиновые лампы, а Пит печет хлеб и раздает сладости. Возле пекарни так и вьются стайки местных ребятишек. После бомбежки нас осталось всего девятьсот: восемьсот взрослых и около ста детей. Сейчас все они у Пита, сидят как воробьи на жердочке-лавке вдоль стены и уминают пряники. Я стою на улице и смотрю через окно, как Пит и старшие ребята – его ученики – лоток за лотком выносят в зал сладости. Глаза вечно голодных оборванных шахтерских детей сияют так, что в моем горле собирается ком. Мы с Прим были такие же: голодные, но гордые. Я улыбаюсь и заталкиваю куда подальше слезы.
Меня замечает Пит, машет рукой, предлагая войти, и я толкаю дверь. Внутри тепло и пахнет ванилью. Отныне Пекарня – мое любимое место в Двенадцатом. Уверена, все, кто сейчас внутри, думают так же. День близится к полудню, народ прибывает и прибывает, Пит печет и печет. Места всем не хватает, и вот уже кто-то несет столы, лавки, самовары: народ высыпает на улицу. Погода отличная: свежо, но ветра нет, ноябрьское небо ясное, светло-голубое. Солнечные лучи отражаются от луж и новеньких стекол отстроенных лавок. Мы рассаживаемся, каждому находится место за столом, едим, смеемся. Сегодня
даже я не чувствую себя чужой на этом празднике. Кто-то приносит губную гармошку и начинает наигрывать незамысловатый мотив местной польки. Вокруг меня кружат лица. Кого-то я знаю лично, кого-то только по имени, а кого-то не знаю вовсе. Но сейчас мы одна большая семья: выжившие. Нас связывает нечто такое, что невозможно описать словами, но каждый это чувствует и старается внести свою лепту в незапланированный праздник. Кто-то поет, кто-то танцует, дети водят хороводы и на какое-то мгновение мне кажется, будто
ничего не было. Да, мы никогда не ели досыта. Да, наш Дистрикт всегда был самым малочисленным и бедным. Да, у нас никогда не было будущего. Но! В нас всегда жила надежда. Мы умели выживать, не смотря ни на что. И эти люди передо мной лучшее тому доказательство. Они потеряли дом, они бежали в Тринадцатый, они жили там по армейским законам, они воевали за Революцию, они вернулись на пепелище, они похоронили своих родителей, сестер, братьев, сыновей и дочерей, но они не потеряли надежду. Они выжили
тогда, и выживут
впредь. Иначе мы не умеем.
Я ищу глазами Пита. Мне хочется поделиться с ним открытием: мой народ не исчезнет, мы не вымрем, как того хотел президент Сноу. Мы все еще здесь. И мы
будем здесь через десять, двадцать, пятьдесят лет! Теперь я понимаю, о чем говорил Пит: все в наших руках.
Но Пита нигде нет, зато я вижу Хеймитча и шепчу одними губами: «Где Пит?» Он отвечает мне так же: «В пекарне». Пит действительно в пекарне. Когда я захожу, он стоит у печи и вынимает еще одну партию булочек. Его волосы кажутся багряно-золотыми в красно-охровом свете печи. Питу идет жар. Он сам как солнце.
- У меня закончилась мука. Это последняя партия.
- И так хватит, иначе кое-кто может лопнуть, - глажу себя по раздувшемуся животу.
Я попробовала все, что стояло на расстоянии вытянутой руки. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что благодаря Питу в моем доме всегда есть свежий хлеб. Пит кривит губы в подобии улыбки и возвращается к печи. Я не вижу его лица, но чувствую: что-то не так. Подхожу и трогаю за плечо.
- Все хорошо?
Пит молчит, и я начинаю волноваться.
- Пит?
Он кладет ладонь на мою руку и поворачивается. Я вижу слезы в его глазах. Я знаю, что это значит: сегодняшний день – дань уважения прежним владельцам торговых рядов. То, что он говорит дальше, не удивляет меня. Лишь подтверждает догадку: Пит думал о семье, когда я вошла.
- Мелларки всегда были пекарями. Отец говорил, эту лавку построил еще мой прадед. Сразу после Темных времен, когда вместе с добровольцами приехал в Двенадцатый из Капитолия. Тут ничего не знали о хлебе: о том, каким он может быть, какие формы принимать. Шахтеры ели серо-зеленые лепешки из местной травы...
- Торнэ, - подсказываю я. Пит кивает.
- Дед был славным: смелым и сильным. А мой отец... – он тяжело вздыхает.
- Он был хорошим, щедрым человеком. Благодаря ему, я, Прим и мама выжили.
- Да, но он не был смелым. И не был сильным. Всем заправляла мать. Она назначала цену на хлеб и вела бухгалтерию. Пару раз я слышал, как они спорили. Отец хотел снизить цену, говорил, что мог бы готовить из муки второго сорта, но продавать хлеб на тридцать процентов дешевле. Мать была против. У нас были постоянные клиенты в городе, которые брали выпечку высшего сорта и воротили нос от чего-то попроще. Она не хотела терять их только из-за того, чтобы «какой-то бедняк раз в неделю мог позволить себе буханку ржаного». Отец всегда уступал ей, даже когда считал иначе. Я не знаю, почему. Не из-за великой любви уж точно. Они и жили-то не очень. Я никогда не видел, чтобы их глаза светились при взгляде друг на друга. Скорее это были быстрые, дежурные взгляды партнеров по бизнесу. Зато я видел, как твой отец смотрел на твою мать. И как на нее смотрел мой...
Меня обдает жаром, и дело тут совсем не в печи, около которой мы стоим.
- По-моему мой отец всегда любил твою мать.
Всегда. Не переставал, даже когда она выбрала твоего отца. Даже после того, как мать родила ему троих сыновей. Возможно, этим мать хотела удержать его, влюбить в себя. Но у нее не вышло. Она стала нелюбимой женой, и это сломило ее. Порою мне кажется, что я могу понять ее чувства.
От слов Пита, в моей груди занимается боль, и сейчас я не могу с уверенностью сказать: моя это боль, или боль Пита, передавшаяся мне, словно вирус. Я догадываюсь, к чему он клонит.
- Но и
его я понимаю. Почему отец не смог...
Пит косится на меня, я знаю, он ждет моих слов, но я ни на что не годна в эту минуту. Затем он отворачивается, долго смотрит в устье печи, на мигающие красно-оранжевые всполохи, и спрашивает:
- Я ведь не такой, как отец, правда?
Его вопрос с подвохом. Я понимаю это и не знаю, что ответить. Я просто смотрю в блестящие голубые глаза, и согласно киваю. Лицо Пита светлеет, он берет с лотка сырную булочку и протягивает мне:
- Это для тебя. Ешь, пока не остыла.
Я смотрю на эту булочку, потом на лицо Пита, и молчу.
- Ладно, - говорит Пит. – Съешь потом, если захочешь.
Его слова полны житейской заботы, но между строк мне слышится другое: «Я ведь не повторю судьбу отца, правда?»
-10-
Я не хотела отмечать, но Пит настоял, его железный аргумент «Это просто преступление, Китнисс: бойкотировать Новый год, когда так мало поводов для радости», бил все мои доводы, словно козырная карта. Даже Хеймитч поддержал его, и мне пришлось уступить.
Поэтому сейчас мы тащимся по сугробам в лес, чтобы срубить елку. Это тоже идея Пита, ибо, «кто же отмечает Новый год без ели, Китнисс?» Я отмечаю! Точнее отмечала, после смерти отца. Как-то не до того было. Елку не съешь на ужин, ее не обменяешь на мыло или нитки, максимум сваришь чай из иголок, и все! Во мне кипит яд, но я молчу, не хочу ругаться с Питом из-за такой мелочи. Если для него так важен этот треклятый праздник, хорошо! Я смирюсь.
- Вот эта, а? – Пит указывает топором на елку.
- Сойдет, - бурчу я.
- Сойдет, - он очень похоже передразнивает меня, даже нос так же морщит.
Мне хочется кинуть в него чем-нибудь, на глаза как раз попадается шишка, и я запускаю ее в Пита. Шишка ударяет ему прямо в лоб. Не ожидал? Пит выглядит удивленным, но лишь долю секунды, затем он отбрасывает топор, подскакивает ко мне и валит на землю с такой легкостью, что я возмущенно взвизгиваю и пытаюсь сбросить его с себя:
- Да ты чего?!
- А ты чего? – Пит нарочно подпрыгивает на мне, впечатывая в сугроб.
- Моя спина!.. – я кривлюсь и кряхчу, испуская «последний дух».
Пит тут же меняется в лице и беспокойно спрашивает:
- Ты как?
Воспользовавшись ситуацией, переворачиваю Пита и усаживаюсь сверху. Мы некоторое время боремся, катаясь по снегу, но я все-таки побеждаю: загребаю руками снег и засыпаю им Пита. Вскоре на его лице образуется небольшой сугроб. Пит смеется и пытается уворачиваться, но как-то уж больно вяло. Он мне подыгрывает, я знаю. Если бы захотел, давно бы скинул: он гораздо сильнее меня. Вдоволь наигравшись, убираю с него снег. Пит улыбается, когда я откапываю ему рот. Я не вижу глаз Пита, только его губы: влажные, с капельками подтаявшего от теплого дыхания снега. Он широко улыбается, показывая зубы: белые и мелкие, совсем не такие, как у меня. На подбородке у Пита видна рыжая щетина, он не брился не меньше двух дней, но из-за светлых волос это не бросается в глаза. Однако я знаю, что если провести по подбородку, можно почувствовать, как колются эти рыжие волоски. Мне стоит больших усилий не сделать этого.
- Китнисс? Ты там уснула? – видимо, Пит теряет терпение, но я в прострации.
Наконец, он опирается на локти и приподнимается, отряхиваясь от снега, словно собака. Меня накрывает импровизированным снегопадом. Я жмурюсь, чтобы снег не попал в глаза. Это напоминает мне о том, как мы попали под дождь. Пит смеется, и я непроизвольно улыбаюсь, наблюдая за ним. В волосах Пита застряли снежинки, превращая их из золотых в белые. Щеки порозовели от холода. Глаза озорно поблескивают. Пит счастлив. Я вижу это. И я
почему-то счастлива из-за этого... Какое-то иррациональное, внезапное чувство бросает меня к нему: я наклоняюсь и чмокаю Пита в щеку. Она холодная и колючая. Я так и знала... Пит изумленно хлопает глазами: я впервые поцеловала его после
всего. Не дав ему опомниться, встаю и иду к выбранной ели.
- Руби эту, и пойдем уже, а то я замерзла.
Хеймитч окатывает нас недовольным взглядом, кряхтит что-то очень похожее на: «Ну и ну», и уходит на кухню, когда мы топчемся в прихожей, роняя на пол снег и не зная, куда пристроить ель. Я стараюсь не смотреть на Пита, и тут же иду к Хеймитчу. Бывший наставник сидит перед телевизором и потягивает очередное пойло, у которого и названия то нет.
- Вы чего так долго? И почему все в снегу?
Я неопределенно веду плечами, а Хеймитч цедит очередное: «Ну и ну...». Вечером приходит Сальная Сэй и помогает с готовкой. Сегодня у нас пир на весь мир. Я охотилась всю неделю: морозилка забита мясом. Сэй готовит фаршированного морковью и чесноком зайца, запекает с луком и травами окуня, раскладывает по тарелкам козий сыр, ветчину и оливки, режет салат из бобов и красного перца – за свежие овощи я отдала почти четверть месячной пенсии, но оно того стоило. Хеймитч гремит бутылками. От вида алкоголя, который он заботливо ставит по центру стола, меня начинает мутить: я сразу же вспоминаю похмелье после нашего загула, и аппетит временно покидает меня. Но лишь временно. Когда Пит выставляет на стол профитроли с заварным кремом, безе со взбитыми сливками, песочные корзинки, наполненные орехами, кусочками фруктов и залитые сверху апельсиновым желе, мой желудок заботливо напоминает о себе.
Я смотрю на Пита, пока мы наряжаем ель. Он выглядит как обычно. Будто тот поцелуй в лесу, мне только привиделся, и я уже начинаю сомневаться: а был ли он на самом деле? В конце концов, я мало чем отличаюсь от Пита: порой у меня тоже путается сознание. Но тут происходит нечто такое, что убеждает меня в реальности произошедшего: Пит подходит и обнимает меня левой рукой. Правой забирает елочную игрушку, которую я хотела повесить, и тянется к верхней ветке. Я чувствую тепло его дыхания на своей щеке и не могу пошевелиться от удивления. Только глаза испуганно бегают по комнате: ищу взглядом Хеймитча или Сэй. Но они на кухне. Пит удачно выбрал момент: мы в гостиной одни. Пит вешает игрушку и обвивает меня уже двумя руками. Его подбородок лежит на моем плече, я чувствую, как колется его щетина.
- Красиво вышло, да? – Пит улыбается, смотря на ель.
Я мычу что-то в ответ: близость Пита превращает мое тело в камень. Он замечает это, хмыкает и отстраняется.
- Ладно, Китнисс. Я понял. Забудем о том, что случилось в лесу.
Я облегченно выдыхаю. Но вредная, вечно недовольная часть меня тут же вставляет: «А ведь когда-то ты говорил, что не хочешь
ничего забывать». Пит отходит как раз перед тем, как в дверь звонят. Мы вопросительно переглядываемся: кто это может быть? На пороге стоит Эффи: на голове зеленый парик в форме новогодней ели, даже гирлянды поблескивают. Но ее улыбка светит ярче сотен огней. Эффи раскидывает руки и верещит:
- Мои дорогие! Мои победители! С Новым годом!
Я обнимаю Эффи и только потом замечаю стоящую позади нее фигуру: мою мать. Она поднимает руку и машет мне. Мы не виделись с тех пор, как меня сослали в Двенадцатый, а она осталась в Капитолии. Мама выглядит усталой и немного похудевшей. Но, кажется, она в порядке. Я отпускаю Эффи и обнимаю ее. Я скучала... Ее тело на миг замирает, а потом расслабляется в моих руках, я сжимаю ее крепче и чувствую такое же объятие в ответ. Эффи в восторге. Она трещит без остановки: пока Пит помогает ей раздеться, пока мы провожаем ее в гостиную, когда она видит наряженную ель, а Хеймитч появляется в комнате с бутылкой в руке и удивленно пялится на нее. Эффи сама непосредственность. Я давно привыкла к этому, а вот моя мама – нет. Поэтому когда мама тянет меня за руку наверх, чтобы спокойно поговорить, я согласно киваю. Мы поднимаемся в спальню и садимся на кровать. Мама начинает первой:
- Как ты? Мы так редко созваниваемся.
- Все хорошо, мам. Просто я много охочусь, а ты много работаешь.
Я рассказываю ей о жизни в Двенадцатом, о заводе, о восстановлении центра, о пекарне Пита. Мама слушает с интересом. Наконец, я говорю о том, о чем молчала во время наших телефонных разговоров: о том, что мы с Питом живем под одной крышей. Лицо мамы еле заметно вытягивается, но она практически сразу берет себя в руки. Смотрит на меня долгим, задумчивым взглядом и объявляет:
- Тебе уже восемнадцать, ты взрослый человек, и уже давным-давно не ребенок, - она вздыхает. Знаю, в этот момент она винит себя за то, что «выключилась» после смерти отца. – А Пит... он в общем-то порядочный молодой человек.
- Мам! – вырывается у меня. – Мы просто соседи!
Ее брови еле заметно подлетают, в лице читается облегчение: кажется, она верит моим словам.
- Это хорошо, но вы такие юные и...
- Мам!
- Ладно-ладно. Вы
просто соседи. Я поняла.
Мы некоторое время молчим, а потом мама говорит:
– Я видела Гейла.
Мы прежде никогда не обсуждали парней. Этот разговор кажется мне неловким. Я чувствую, как в горле собирается ком при звуке знакомого имени, и пытаюсь заставить себя не дрожать. Но сердце так бешено стучит в груди, что меня колотит помимо воли: я жадно вслушиваюсь в ее слова.
- Он теперь капитан. Приезжал недавно в госпиталь, забирал партию медиков во Второй. Он спрашивал о тебе, – ее слова эхом звучат у меня в голове. – Вы совсем не общаетесь после... после
всего?
«После смерти Прим», - мысленно перевожу я, и тут же ощущаю, как мое сердце успокаивается: вместо холмиков пульса – ровная нить.
- Нет. Он ни разу не звонил, - я отхожу к окну, обхватываю себя руками и смотрю на улицу: дом Пита стоит в белоснежном кружеве. – И не писал.
- Ну, а ты? – мама подходит и встает рядом.
- И я.
- Позвони сейчас. Поздравь с праздником.
Я бросаю на нее раздраженный взгляд, но приказываю самой себе проглотить яд: мама не знает, чья это была идея с двойным взрывом, убившим Прим. Не дело срываться на ней. Я неопределенно веду плечами, мол, подумаю.
Все уже за столом, ждут только нас. По правде говоря, я не люблю сюрпризы. Но сегодняшний определенно из разряда удачных. Почему я сама не догадалась пригласить маму и Эффи на праздник? Да потому что я и отмечать-то не хотела. Если бы не настойчивость Пита... Я вдруг все понимаю и изумленно смотрю на него. Пит говорит с Эффи, точнее слушает ее рассказ о том, как раньше пышно отмечали Новый год в Капитолии: ставили на Площади трибутов огромную ель, бесплатно наливали шампанское и угощали деликатесами, разыгрывали новогодние представления по библейским мотивам. А сразу после боя курантов – по давно заведенной традиции – начинался салют: небо над Капитолием окрашивалось во все цвета радуги, а эхо от разрывающих снарядов было слышно даже в Дистрикте-1. Все это Эффи рассказывает с благоговейным придыханием, похоже, она до сих пор скучает по праздной дореволюционной жизни, когда единственной ее забытой было подобрать самый необычный, ультрамодный наряд.
Мы с Питом встречаемся взглядами, и я шепчу одними губами: «Спасибо», он мягко улыбается. Я люблю его в это мгновение больше, чем обычно. Удивительно, но даже Хеймитч не напивается. Мы разговариваем весь вечер. В основном Пит и Эффи, конечно. Мы с мамой не любители болтать. А Хеймитч сверлит бутылки несчастным взглядом, но держит себя в руках и налегает на еду. Мама сидит рядом со мной и изредка вставляет ремарки о жизни в Капитолии. Я узнаю, что в бывшем тренировочном центре открыли реабилитационный центр для пострадавших. Там
уже прошли лечение почти две тысячи ополченцев, и столько же на подходе. Вся та роскошь, релакс-процедуры и превосходное питание, от которых мы с Питом пребывали в шоке первое время, теперь доступна и простым людям. Впервые по возвращении в Двенадцатый я чувствую, что приняла правильное решение, выпустив ту злосчастную стрелу в президента Койн.
Вскоре мама начинает клевать носом: усталость, длительный переезд и новые впечатления – все это клонит ее в сон. Я молча указываю на нее Питу, и он говорит:
- Наверное, пора подумать о том, где разместить наших гостей, да, Китнисс? В доме три спальни. Я могу отдать свою Эффи или миссис Эвердин. А сам лягу на диване или вернусь к себе.
- Но ведь твой дом совсем промерз. Потребуется время, чтобы протопить его, - предложение Пита удивляется меня. Я рассчитывала на что-то попроще. Например, лечь вместе с матерью.
- Да все нормально, - отмахивается Пит. – Я не замерзну.
- Нет-нет, - вставляет мама. – Лучше я лягу на диване.
- Вы – гость, вам и лучшее место, - возражает Пит.
Этот спор мог бы продолжаться вечно, но тут голос подает Хеймитч:
- Эффи может остаться у меня, а миссис Эвердин займет спальню для гостей.
Мы все глядим на Хеймитча.
- Что? – он хохлится, как воробей. – Разве это не самый разумный вариант?
Хеймитч прав, но сам факт того, что он предложил подобное, настолько удивителен, что я кошусь на Пита, словно спрашивая: «Мне это снится?», Пит отвечает аналогичным взглядом.
- Конечно, если Эффи не против остаться в доме у закоренелого холостяка, - Хеймитч хмурится и на всякий случай поясняет: - У меня не прибрано.
- О, дорогой, можно подумать я не в курсе, - Эффи широко улыбается. – После того нырка со сцены, ты вряд ли способен меня чем-либо удивить.
Она смеется, как ни в чем не бывало, и мы все переводим дух. Даже Хеймитч улыбается.
Мы провожаем Эффи и Хеймитча, а затем поднимаемся наверх. Пит останавливается у своей двери и говорит:
- Миссис Эвердин, вы можете лечь у меня, а я займу комнату... – он замолкает, но каждый из нас понимает,
чье имя он не произносит вслух.
- Все в порядке, Пит, - мама кладет руку на его плечо и легонько сжимает, благодаря за деликатность. – Я лягу в комнате Прим.
Когда мама наклоняется и целует меня в висок, я чувствую, как в горле собирается ком. Слезы перехватывают дыхание, и я поспешно иду к себе, чтобы не разреветься на глазах у всех. Ночью мне снятся кошмары: я снова у президентского дворца, Прим прямо передо мной, она склонилась над раненым ребенком. Я вижу, как с планолета сбрасывают бомбы, я пытаюсь пробиться сквозь толпу, я кричу ей: «Прим! Прим! Это ловушка!», но взрывная волна опережает меня, и мир превращается в красное месиво. Я просыпаюсь с криком: «Прим!» и плачу, уткнувшись в ладони. Из коридора слышатся шаги – это мама и Пит.
- Я сама, - еле слышно говорит мама. – Иди спать.
Она заглядывает в спальню, видит меня, свернувшуюся в крючок, и садиться рядом. Ее глаза полны слез и кажутся черными провалами. Мы молча плачем, а потом, обнявшись, засыпаем. Мне снится очередной кошмар, в нем Прим, раненные дети и спускающиеся на серебряных парашютах бомбы. Я снова кричу, и мама подскакивает от моего воя.
- Что, опять?
Я киваю и вытираю бегущие по щекам слезы.
- И так каждую ночь?
- Нет. Очень редко, - вру я. – Сегодня много впечатлений.
- Наверное, мне не следовало приезжать, - мама вздыхает. – Я напоминаю тебе
о ней.
- Мне все напоминает о ней. Ты здесь совсем не причем.
Я слышу, как под дверью топчется Пит. Он как всегда пришел на мой крик, но не решается войти, не хочет мешать нам. Мама тоже его слышит и говорит:
- Входи, Пит. Наверное, ты был прав.
Мне хочется спросить, о чем она? Но когда я вижу знакомое лицо, аккуратно выглядывающее из-за дверного проема, то облегченно вздыхаю – вот он, мой герой. Мама уступает Питу место и уходит к себе, на всякий случай добавляя:
- Если что я в соседней комнате.
Пит залезает под одеяло, и я проворно прижимаюсь к нему: теплый, пахнет ванилью. Я расслабляюсь и почти сразу засыпаю.
-11-
Мама гостит у нас еще несколько дней. Мы вместе навещаем отца на кладбище, плачем и говорим друг другу, что все будет хорошо. Потом идем в город, я показываю ей отстроенные торговые ряды, место, где в скором времени развернется производство лекарств – мы зовем его просто: Завод. Я рада, что мама застала Двенадцатый уже таким: восставшим из пепла, что она не видела его сразу же после бомбежки, как мы с Гейлом. Мысли о нем, все чаще посещают меня. Быть может, мне действительно стоит позвонить ему? Вечерами приходят Эффи и Хеймитч, и мы все вместе ужинаем. Ума не приложу, почему Эффи до сих пор не сбежала в Капитолий, уверена, ей невообразимо скучно в Двенадцатом, но по какой-то причине она по-прежнему здесь. Возможно, ей тоже не хватало нас... Мне хочется в это верить.
Я не хочу больше будить маму своими воплями, поэтому прошу Пита ложиться со мной. Каждую ночь он дожидается, пока мама заснет, потом пробирается ко мне, а рано утром так же «крадучись» уходит. В случае с Питом слово «крадучись» напрочь утрачивает смысл: Пит не умеет тихо ходить. Эти игры продолжаются все время пребывания мамы в Двенадцатом. Но в последнюю ночь я просыпаюсь и слышу шепот из коридора:
- Как она? Только честно, - голос принадлежит маме.
- По-разному. Бывает хорошо, бывает не очень, - отвечает Пит.
- Часто у нее кошмары?
- Раньше были часто, почти каждую ночь. Сейчас все реже. Не больше двух раз в неделю.
Мама вздыхает.
- Мне следовало поехать за ней, не оставлять один на один с этим... – я слышу как ее голос срывается, и на мои глаза наворачиваются слезы. – Но здесь мне все напоминает о ней.
Я знаю, о чем она. Я чувствовала тоже. Все в этом доме напоминало мне о Прим: ее комната, ее тетради с рецептами, ее баночки с травами, даже треклятый кот Лютик, вернувшийся домой из Тринадцатого. Это было больно. Мучительно больно. Но у меня не было выхода, мне некуда было пойти, да и сил на то, чтобы сбежать в лес и обосноваться в хижине на озере, тоже не было. Я бы просто не дошла по сугробам в своем тогдашнем состоянии. Я не злюсь на маму, как после смерти отца, теперь я ее понимаю.
- Вы не должны винить себя, - говорит Пит, словно повторяя мои мысли. – Дайте ей время. Все наладится. Я уверен. К тому же, здесь я. Не беспокойтесь. Я присмотрю за ней.
- Пит... – выдыхает мама. Я не вижу этого, но представляю, как она обнимает его. – Спасибо. За все.
-12-
Я просыпаюсь от шума, доносящегося с кухни. Судя по свету за окном, на часах не меньше девяти утра. Почему Пит все еще дома? Это странно. Я умываюсь и спускаюсь вниз. Да, действительно. Пит сидит за столом и ест тосты с джемом.
- О, привет, - он делает глоток чая, глядя на меня.
- Почему ты еще не в пекарне?
- Ты что не видела? – я озадаченно гляжу на него, и Пит улыбается. – Тогда пойдем, я сам покажу тебе.
Он ведет меня к входной двери, набирает воздуха в легкие и торжественно распахивает ее.
- Та-дам! – Пит просто сияет, а я смотрю со смесью удивления и шока на сугроб не меньше метра в высоту. – Ты когда-нибудь видела такое? Я – нет. Но старики рассказывали, что лет тридцать назад метель были такие, что Двенадцатый заваливало чуть не по пояс. А потом миротворцы высадили лесополосы вокруг города, построили на холме метеостанцию с какими-то спецустройствами, и снега почти не стало.
- А сейчас?..
- Сейчас их нет. Разбомбили. В Двенадцатый вернулась зима, Китнисс! - Пит в восторге от увиденного.
- А как же я теперь?..
- Пойдешь на охоту? Так же, как я пойду в пекарню – никак.
Пит захлопывает дверь, ставя точку. Я удивленно смотрю на нее, будто вижу впервые. В такую погоду о походе в лес можно забыть: выходит, я остаюсь дома.
- А что же мы будем?..
- Есть? Не переживай. Я тут проверил наши запасы. В холодильнике полным-полно мяса, макароны, гречка, мука. С голоду точно не умрем, - Пит аж светится, очевидно, ему по вкусу такой поворот.
- А чем же мы будем?..
- Заниматься? – мне даже не нужно договаривать, Пит хватает мои мысли на лету. – Я все придумал. Вариантов море. Выбирай любой. Первый, - он загибает указательный палец. – Можем сыграть во что-нибудь. Например, в карты.
Я вспоминаю, что карты притащил Хеймитч. Мы пару раз играли, пока в Двенадцатом гостили мама с Эффи, потом забросили их куда-то.
- Второй, - Пит загибает средний палец. – Можно посмотреть что-нибудь по ТВ. Сейчас, конечно, выбор не ахти – сплошные ток-шоу – но вечерами показывают фильмы.
- А еще?
- Вариант номер три, - Пит загибает безымянный. – Можно прибраться, мы давно не наводили порядок, – я поспешно кривлюсь, но Пит не сдается. – Тогда номер четыре – приготовить что-нибудь. Вместе.
- Например, что? – эта идея кажется мне наиболее жизнеспособной.
- Все, что хочешь.
- Пирожные? – тут же выдаю я. – Только я не умею.
Пит улыбается. Кажется, мой выбор его совсем не удивляет. Наверное, Пит считает меня обжорой.
- Я тебя научу.
Пит выставляет на столе ингредиенты: яйца, масло, молоко, муку, соль, сахар, ваниль, сливки, и начинает раздавать указания: «белки и желтки разделить», «молоко подогреть», «муку с сахаром смешать», «масло растопить» и так далее. Привык командовать у себя в пекарне. В начале меня даже злит его менторский тон, но когда Пит встает за моей спиной и показывает сам, как нужно взбивать сливки, я благополучно забываю о том, что уже хотела рявкнуть на него. У Пита в руках все спорится. Просто поразительно! Сливки моментально превращаются в пышную, упругую массу.
- Нужно вот так, видишь? – бубнит Пит, работая, а я смотрю на него и улыбаюсь. – Что такое?
- Ничего.
Мне нравится то ощущение уюта, которое дарят его руки, обвитые вокруг меня, тепло груди, что я ощущаю спиной, горящие азартом глаза. Пит красивый... Я и раньше это понимала, но не так, как сейчас.
- Считаешь, я зануда? – он улыбается в ответ на мою улыбку.
- Нет.
«Ты замечательный», - хочется добавить мне, но я не решаюсь. Достаточно и того, как предательски стучит мое сердце из-за его близости, не хватало еще наговорить невесть чего.
- А можно я сама?
- Конечно.
Пит передает мне миску, но остается рядом, опираясь рукой на стол, и внимательно смотрит за моими движениями.
- Хорошо. Очень хорошо, - Пит щедр на похвалу, и это приятно. – Теперь нужно смешать сливки с остальным кремом и поставить тесто в духовку.
Пит берет кондитерский шприц и заполняет его массой для выпечки.
- Дамы вперед, - его шутка времен Игр звучит сейчас как издевка, но мне нравится такая интерпретация, я принимаю шприц и что есть мочи налегаю на него. Но у меня не получается выдавить ровный длинный эклер.
- Погоди, - Пит перехватывает мои руки и давит сам. Я вижу, как напрягаются мышцы под его кожей, и не могу удержаться от комментария:
- Если бы я, а не ты, каждый день пекла такие «пироженки», то сейчас могла бы голыми руками подковы разгибать.
Пит изумленно смотрит на меня, а потом смеется. Мне нравится, как звучит его смех.
- Теперь ставим противень в духовку и ждем двадцать минут, - Пит садится на стул и подпирает голову рукой. Я не знаю, куда себя деть. Под его взглядом мне становится неуютно, а кухня кажется очень маленькой.
- Я сейчас, - выхожу, точнее, позорно сбегаю из комнаты, чтобы перевести дыхание.
Иду в ванную, мою руки, переплетаю косу – это всегда успокаивает меня. Минут десять сижу на краю ванной. Все. Я больше не знаю, чем себя занять. Вздыхаю и иду на кухню, словно на плаху. Что со мной не так? Почему мне так нравится находиться рядом с Питом и так некомфортно в тот же момент? Когда я захожу, он листает какую-то книгу.
- Гляди, что нашел, - Пит показывает мне обложку.
Это одна из тетрадей моей матери, куда она записывала медицинские рецепты. Туда же мы с Питом вносили названия лечебных растений и делали рисунки – Пит делал, я-то не умею рисовать. Мы столько часов провели над этими тетрадями, пока я валялась с больной ногой, что практически сроднились с их пожелтевшими страницами.
- Ничего себе... – я изумленно смотрю на тетрадь. – Я думала, она забрала ее с собой.
- Как видишь, нет. Знаешь, о чем я вдруг подумал?
- О чем?
- Почему бы нам не завести такую же? И не записать туда информацию о тех, кого знали, - я непонимающе кривлюсь, и Пит поясняет: - Например, о Прим, Руте, Финнике...
Это словно удар под дых: Пит предлагает сделать посмертную книгу. Мне не хватает воздуха, в груди скручивается узел, и я ищу руками стул, чтобы сесть.
- Мне кажется, доктор Аурелиус одобрил бы эту затею, - добавляет Пит.
- Я не хочу.
- Почему?
- Просто не хочу, и все. Не хочу я писать о Прим в какой-то дурацкой книге!
Я чувствую, как начинаю закипать: руки сходятся в кулаки, ноги напрягаются, меня встряхивает. Я – сплошной комок нервов.
- Ладно, - говорит Пит. – Не хочешь – не надо.
На духовке тренькает звонок, Пит вынимает эклеры, дает им немного остыть и заполняет приготовленным кремом. Вот только мне уже совсем не хочется есть. Я наблюдаю за его действиями со сторонним равнодушием, будто нахожусь на другой планете.
- На вот, попробуй, - Пит кладет мне пирожное и пододвигает бокал с чаем.
Я машинально сую его в рот и жую.
- Вкусно?
- Вкусно, - я не чувствую сладости, во рту привкус тлена. Запихиваю в себя остатки и выпиваю залпом чай. – Я все. Посуду моешь ты.
Иду в гостиную и включаю телевизор. По ТВ без умолку твердят о скорой годовщине Революции, о предстоящем параде и специальных репортажах из дистриктов. Меня тошнит от этого, я сыта Революцией по горло. Нам с Питом предлагали почетные места на параде, рядом с президентом Пейлор, как-никак мы – само воплощение Нового Панема, но мы отказались. Довольно с нас парадов на Аллее Трибутов! Нахожу какой-то старый черно-белый фильм и бездумно пялюсь в экран. В гостиную входит Пит, садится за стол и раскладывает старые газетные выпуски. Я незаметно кошусь на него, мне интересно, что он задумал. Книга... Ну, конечно. Пит вырезает из газет фотографию Финника, клеит на первую страницу и что-то пишет. Я преувеличенно заинтересованно смотрю фильм.
- Ты не помнишь, у Финника были голубые глаза или серые? На фото не очень понятно, - вдруг спрашивает он.
Я хмурюсь:
- Голубые.
- Я так и думал.
Пит что-то черкает в тетради, затем задумчиво закусывает губу и снова спрашивает:
- Он ведь стал победителем в пятнадцать?
- В четырнадцать, - я начинаю злиться. – Ты мешаешь мне смотреть фильм.
- Извини, Китнисс. Просто я... не совсем уверен, что все помню верно. Ну... из-за «новых» воспоминаний.
Я бросаю на Пита раздраженный взгляд, он умоляюще смотрит в ответ, и я взрываюсь:
- Ладно! Давай посмотрю, что ты там написал.
Я подсаживаюсь к Питу и правлю ошибки в тексте, их не так уж и много. Недоверчивая часть меня, язвительно шипит: «Он нарочно прикинулся дурачком, неужели не понимаешь?» Я
понимаю. Но у меня нет ни сил, ни желания разбираться в этом. Какая к черту разница!
На фоне идут «Новости», и краем глаза мы смотрим репортаж о том, что в Двенадцатом выпало аномально много осадков, Дистрикт отрезан от остального Панема, Капитолий высылает технику и персонал, чтобы разгрести сугробы.
- Как думаешь, скоро нас откопают? – говорит Пит.
- Не раньше, чем центр. Вряд ли они вспомнят о Деревне победителей до того, как вылижут город.
Пит согласно кивает. Мы сидим над книгой до самой ночи, ищем фотографии в старых выпусках, вспоминаем случаи из жизни, иногда смеемся, иногда тяжело молчим. Это странно... Смотреть в глаза тех, кто уже никогда не заглянет в твои. Ты будто бы снова прикасаешься к ним, трогаешь кончиками пальцев, но они ускользают. Я вспоминаю слова Пита во время Тура победителей: «Наши жизни измеряются не годами, а жизнями тех людей, которых мы коснулись...» Кошусь на Пита, он разглядывает фото Мадж. Она училась с нами в одном классе, Мадж погибла во время бомбежки, сейчас ей было бы восемнадцать. В голубых глазах боль, мне тяжело видеть его таким, поэтому я закрываю книгу и говорю:
- Идем спать.
Весь следующий день мы снова проводим над Книгой, а вечером вместе готовим ужин: пирог с картофелем и дикой индейкой, потом пьем чай возле телевизора и смотрим какой-то супергеройский фильм, который крутят в прайм-тайм. На очередном сверхчеловеческом прыжке, когда герой скачет с одного здания на другое, мы скептически восклицаем: «Да ладно!»
- Можно я это выключу? – бурчит недовольно Пит.
- Еще спрашиваешь!
Мы сидим некоторое время в тишине, затем Пит тянет меня к себе и говорит:
- Спой что-нибудь, Китнисс, - его просьба такая неожиданная, что несколько секунд я удивленно смотрю на Пита, не понимая, шутит он или нет. Но Пит выглядит серьезным. – Спой, пожалуйста.
В голову совершенно ничего не идет. Все песни моего народа – это слезы и боль, но вряд ли Пит хочет услышать очередную «Песню Висельника». Я совершенно не знаю, что спеть. И вдруг... я вспоминаю одну. Ту, что отец пел для матери. Мы с Прим тогда были еще совсем маленькие, и очень любили ее. Мама всегда улыбалась, когда он пел, а потом украдкой вытирала слезы. Мы не понимали, почему она плачет. Но сейчас... кажется, я знаю.
Пит обнимает меня, вынуждая уложить голову на его плечо, и я тихонько начинаю:
- Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.
Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени,
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.
Пит гладит меня по волосам, уткнувшись носом в висок. Думаю, он прежде не слышал этой песни. Ее никогда не пели в шинке у Сэй или в раздевалках Шахты. Я не знаю, почему, но я почти уверена, что отец сочинил ее специально для мамы.
- Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света.
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.
Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре,
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море.
Мне представляется папа: молодой и сильный шахтер, как на фото двадцатилетней давности, и мама: дочь аптекарей из центра – запретная любовь между городской и мальчишкой из Шлака. Родители мамы были против отца, и ей пришлось разорвать с ними все отношения. Мы с Прим никогда не видели бабушку и дедушку. Интересно, они пережили бомбежку? Наверное, нет. Стариков среди выживших почти нет, они слишком боялись леса, куда Гейл увел остальных, и пошли по главной дороге. В детстве эта песня казалась мне романтичной, мы с Прим прямо млели, когда отец пел ее. А сейчас мне открылась другая ее сторона: темная и грустная. Эта песня, как и все песни в Шлаке, не столько о любви, сколько о незавидной доле моего народа, о неравенстве и вечном давлении извне.
- В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно?
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?
Украду, если кража тебе по душе,
Я не зря в том лесу партизанил.
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял*.
На последнем куплете мой голос надламывается, но я не понимаю этого до тех пор, пока Пит не стирает пальцем слезы с моих щек. Когда я успела заплакать? На какой строчке? Я не знаю...
- Китнисс? – его голос такой глухой, что я машинально перевожу на Пита взгляд. В голубых глазах стоят слезы, отчего они неестественно сверкают в тусклом свете настольной лампы. – Прости, что не уберег тебя.
Его слова – контрольный выстрел в мое самообладание. Это слишком. Действительно слишком. Мне кажется, будто я падаю. «Это я должна просить у тебя прощения! Это я не спасла тебя с Арены и позволила Сноу!..» – мысленно кричу я, но с моих губ не слетает ни звука. Я отворачиваюсь и, сжав, что есть силы зубы, борюсь со слезами. Но они снова побеждают. Они всегда побеждают, ибо я слаба.
- Китнисс...
Пит кладет ладонь на мою щеку и пытается развернуть к себе, но я сопротивляюсь: мне стыдно. Ужасно стыдно перед ним.
- Иди сюда. Ну, все. Все, - Пит тянет меня на себя, вынуждая обнажить душу, и я прихожу в бешенство от этого: лягаюсь и извиваюсь. Но тягаться с Питом, все равно, что двигать гору. В конце концов, он побеждает: переворачивает и заталкивает меня между собой и спинкой дивана.
- Пусти! Я хочу уйти! Пусти!– я нервно дергаюсь в его руках.
- Нет. Не хочешь.
Вот и все. Так просто. Я смотрю на Пита, он смотрит на меня, а потом притягивает за подбородок к себе. Его губы соленые и влажные. А еще они нервные. Но не настолько, как мои... Не знаю, не понимаю, что творится со мной, но я впиваюсь в его губы с такой непостижимой одержимостью, будто мне не хватает воздуха, будто Пит и есть мой воздух. Когда я, наконец, отстраняюсь, Пит тяжело дышит и смотрит на меня незнакомым ранее взглядом. Мне хочется исчезнуть, провалиться под землю из-за своей слабости. Но Пит выдыхает: «Еще», и я чувствую облегчение: он жадничает не меньше моего. Я хватаю его за ворот свитера и тяну на себя, прижимаюсь всем телом. Это легко сделать, места и так почти нет. Мы целуемся с маниакальной жадностью, размыкая губы только для того, чтобы глотнуть воздуха. Нам нужно это. Прямо сейчас. Чтобы не сойти с ума. Меня нервно трясет изнутри, и эта дрожь уходит в ноги, руки, голову. Вскоре я начинаю трястись всем телом, буквально хожу ходуном в его руках – так у меня обычно начинается приступ – но Пит еще крепче сжимает меня, как будто это вообще возможно.
- Т-ш-ш... - шепчет он между поцелуями. – Все хорошо. Я рядом, рядом. Не бойся.
Но я боюсь. Я всегда боюсь. А сейчас особенно. Боюсь, что его отнимут у меня: вырвут из объятий и заберут так далеко, что я уже никогда не смогу отыскать его. Я безмолвно плачу и цепляюсь за свитер Пита с такой силой, что тот трещит под моими пальцами. Мои слезы размазываются по его лицу, я чувствую солоноватый привкус на губах. Вот он – вкус наших отношений: соленый, как слезы, горький, как расставание.
- Я рядом, Китнисс, я рядом, - твердит Пит, гладя меня по спине, целует в висок и тискает в объятиях, словно маленького ребенка. Это напоминает мне о том, как с нами играл отец. Он всегда приходил с охоты в приподнятом настроение, лес успокаивал его, «лечил», так же как меня. Отец сажал нас с Прим на колени, меня – на правое, ее – на левое. Тискал в объятиях и целовал в макушки, приговаривая: «Один поцелуй для Китнисс, второй поцелуй для Прим. Один поцелуй для Китнисс, второй – для Прим». Это воспоминание такое тяжелое, но одновременно светлое, что я не знаю, как реагировать на него: плакать или улыбаться.
- Ну-ну. Все. Т-ш-ш... Дай-ка сюда ладонь, - шепчет Пит, затем берет меня за руку и приговаривает: - Раз, два, три, четыре, пять. Хотят пальчики все спать. Этот пальчик – хочет спать, - он целует мой указательный палец, - Этот пальчик – лег в кровать. Этот пальчик – чуть вздремнул. Этот пальчик – уж уснул. Этот пальчик – крепко спит, - он чмокает попеременно каждый мой палец. – Тише, тише, не шумите. Пальцы Китнисс не будите.
- Это что такое? - я изумленно моргаю, забыв об истерике.
- Детская потешка. Отец рассказывал, когда укладывал нас спать. Она всегда успокаивала меня.
Я смотрю на Пита и чувствую, как внутри меня что-то лопается, будто прорывается вулкан, и лава растекается под кожей, прогоняя прочь холод. Ползет по спине, между грудей, стекает по ногам. Я вспоминаю ночной разговор между Питом и Гейлом, когда мы прятались в коморке у Тигрис. Пока все спали, Пит спросил у него, кого я выберу после войны, если мы все трое останемся в живых, Гейл ответил: «Китнисс выберет того, кто, по ее мнению, поможет ей выжить». Они думали, что я сплю и ничего не слышу, но я не спала. Слова Гейла тогда очень обидели меня: не думала, что он считает меня настолько расчетливой. Но сейчас... Как бы мне не хотелось признавать это, кажется, Гейл был прав: я умру без Пита. Честно. Я просто не выживу, если его не будет рядом... Но я слишком измотана, слишком выхолощена всем тем, что сделали
с нами, чтобы решиться на разговор. Особенно сейчас. Лимит отведенной мне смелости подошел к концу вместе со смертью президента Койн. Отныне я пуста. Меня хватает только на то, чтобы улыбнуться и погладить его по щеке.
- Пит?..
- М-м-м... – его взгляд такой успокаивающий и теплый, что я расслабляюсь под ним. Хочу большего... Чего-то кроме этого взгляда: больше Пита, больше его поцелуев.
Я наклоняюсь и целую его. Не так, как до этого: пытаюсь вложить в поцелуй всю нежность и признательность, которые переполняют меня сейчас. Хочу успокоить им Пита, усмирить внутренних демонов, как он сделал это для меня, и, кажется, у меня выходит. Губы Пита отвечают мне с той же нежностью, с тем же трепетом. Этот поцелуй такой тягуче-сладкий, что я растворяюсь в нем, впитываю каждой клеточкой, чтобы оставить в памяти, а потом в особо тяжелые, темные моменты снова и снова прокручивать в голове. У Пита тонкие губы, говорят, для поцелуев лучше, когда они толще. А мне кажется – чушь собачья. Не в губах дело, а в отношении. К тому же мне нравятся его губы, и те ощущения, которые они дарят. Мы целуемся так долго, что я теряю счет времени, только ощущаю, как мои собственные губы припухают и становятся до того чувствительными, что каждое прикосновение ощущается более остро, приятней вдвойне. Краем уха я слышу, как в Деревню победителей загоняют снегоуборочную технику: она жужжит и скребет металлическим ковшом о промерзшую землю. Кажется, скоро я смогу пойти на охоту, а Пит на работу. Завтра наша жизнь вернется в привычное русло, но сейчас... Я отстраняюсь и смотрю на Пита, он открывает глаза: мутные, какие-то чумные, и то ли сонно, то ли пьяно улыбается. Мне хочется верить, что он такой из-за меня.
- Давай останемся здесь, на диване? – говорю я.
Не хочу расставаться с Питом и идти в свою комнату, но на часах уже два: нам давно пора спать.
- Давай.
Я льну обратно к Питу и укладываю голову на его грудь, он немного разворачивается, чтобы мне было, куда деть ноги. Я засовываю одну между его колен, а вторую забрасываю на бедро – идеально. Я слышу, как бьется его сердце: сначала быстро, а потом все медленнее, пока не входит в привычный размеренный ритм. Мое сердце отвечает тем же. Мы засыпаем на диване, переплетясь руками и ногами, как деревья корнями. Уже проваливаясь в сон, я чувствую, как Пит гладит меня по спине и целует в макушку, словно отец. Это приятно.
- Всегда? – шепчу я только нам двоим понятную фразу.
-
Всегда.
__________________________________________
* - стихи Владимира Высоцкого – «Здесь лапы у елей дрожат на весу...»







































































 ...что в
...что в  ... что можете оставить заявку
... что можете оставить заявку 






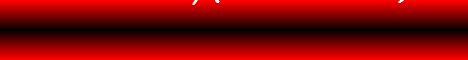




 Не могу сказать, насколько справились режиссеры, для меня фильмы накладывались на уже сформировавшееся мнение об истории, персонажах и их отношениях. А в книгах я прочувствовала их отношения и верила в их любовь.
Не могу сказать, насколько справились режиссеры, для меня фильмы накладывались на уже сформировавшееся мнение об истории, персонажах и их отношениях. А в книгах я прочувствовала их отношения и верила в их любовь. 