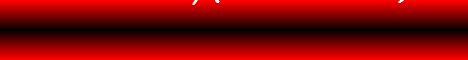Через две недели доктор Шепард вдруг обрадовал меня новостью, что нашёлся донор. Я не сразу поверила такой удачи, понимая, что моя редкая группа крови делает поиск подходящего сердца еще сложнее, чем обычно. Оно нашлось, хотя это означало смерть другого человека, и от этого мурашки шли по коже. Хотя я старалась об этом не задумываться, ведь тот, кто при жизни подписал документы о донорстве, хотел чтобы в случае гибели, сделать ее менее трагичной, принести добро в мир, и я не знала какого Бога благодарить за это.
Собравшись в рекордные сроки, после звонка доктора была в больнице уже рано утром. Родители же только завезли меня и расписались во всех необходимых бумагах, спеша на работу, доверив остальные заботы медперсоналу. Идя по коридору, вслед за медсестрой я уже ощущала, как больничные стены начали давить на меня практически сразу. Звуки, запахи нервировали.
— Мисс Робертс, вам сюда, — встав возле одной из дверей, указала женщина.
Послушно зайдя в палату, я даже несколько опешила, увидев соседку и ее родителей. Обычно я лежала в отдельной палате.
— Отделение переполнено, — объяснила медсестра, в ответ на мой удивленный взгляд.
— Здравствуйте, — выдавила я из себя, опуская сумку на постель.
— Добрый день, я — миссис Лэнг, Сьюзан, — тут же подскочила ко мне полная улыбчивая женщина лет сорока. — Это мой муж Карл и дочка Ванесса.
— Приятно познакомить, Дженнифер.
— А где твои родители? — тут же спросила девочка, которой на вид было не больше десяти — одиннадцати лет.
— На работе, — пожала я плечами.
— Дорогая, Дженнифер уже достаточна взрослая девочка, чтобы одной лежать в больнице, — начала объяснять дочери миссис Лэнг.
— Неужели ты не боишься? — округлила глаза маленькая Ванесса.
Я лишь неопределённо пожала плечами. Не признаваться же малышке, что боюсь, возможно даже больше чем она, но выхода нет, смерти я боюсь ещё сильнее.
— Она уже достаточно взрослая, — снова ответила за меня женщина. — Сколько тебе? — уже обратилась она ко мне.
— Семнадцать.
— Все равно я считаю, что когда рядом папа и мама, это лучше, — вынес, с присущим детям максимализмом, вердикт ребёнок.
«Кто спорит, но к сожалению этот мир несовершенен и не у всех такие любящие родители, как твои», — подумала я, но вслух ничего говорить не стала.
Переодевшись в туалете, села на постель ждать доктора Шепарда с дальнейшими новостями о моем будущем сердце. Проходило десять минут, потом полчаса, час, два. В тот момент когда он все же появился в дверях, сверкая своей белоснежной улыбкой, я уже знала все фамильное древо Лэнгов, какие подарки им подарили на последнее Рождество, — миссис Лэнг оказалась любительницей поболтать и вскоре я почувствовала, что мой мозг взорвется от обилия ненужной и неважной мне информации, как в разговоре проскочило, то что заставило меня вздрогнуть.
— А не так давно, — продолжила мисс Лэнг. — В нашем парке кто-то сломал фонарь, и асфальт рядом с ним растрескался, да и вообще превратился в мелкую крошку. Это было очень странно и даже страшно, — рассказывала миссис Лэнг. — Я раньше ходила этой дорогой на работу, и сама видела этот столб, точнее то, что от него осталось. Такое ощущение, что в парке какой-нибудь грузовой автомобиль прокатился.
Она продолжала описывать обломки фонаря, а у меня перед глазами разыгрывались сцены того вечера. Мурашки прошлись по спине.
— И как это все объяснили? — спросила я.
— А как? Рассказали, что-то про брак во время производства фонаря, про воздействия внешних факторов, — пожала женщина плечами.
О, да внешние факторы, еще какие. За прошедшие два месяца я успела себя убедить, что то происшествие в парке не было таким фантастическим, как я помнила, но тут же вспомнила слова доктора Каллена:
«Обещай, что ты об этом забудешь, Дженнифер».
Я обещала, но похоже сама судьба спешила мне напомнить. Именно конец этой интересной истории и прервало появление доктора Шепарда. Он улыбнулся миссис Лэнг, о чем-то пошутил с маленькой Ванессой, и уже потом обратил все своё внимание ко мне.
— Дженни, дорогая, ты прекрасно выглядишь.
— Да, особенно меня украшает эта интересная бледность и круги под глазами, — не удержалась я от колкости.
— Ничего, скоро мы это исправим, — продолжал источать благодушие врач. — К вечеру сердце заберут и транспортируют сюда, к сожалению даже специальным рейсом это займёт не менее двух часов, но не волнуйтесь, у нас будет много времени, чтобы вложить новое сердце в твою грудь.
— Хорошо, — натянуто улыбнулась я, хотя все внутри похолодело от страха.
Да, я понимала, что без операции я умру, но это не уменьшало моего страха перед тем, что предстоит. В тот первый раз, именно объяснения доктора Каллена, именно его поддержка помогли мне перешагнуть мои страхи. Но сейчас, сделать это было некому.
Когда доктор Шепард ушёл, я смогла постараться убедить себя, что деваться мне некуда. И постараться отвлечься, чтобы не представлять холодные и освещённые до рези в глазах стены операционной и стоящих надо мной хирургов, готовых вонзить в меня скальпель, вытащить мое сердце и выбросить в мусорку, или что делают с тем, что отслужило свой срок.
Я достала из рюкзака дневник Эсми, который в первую очередь взяла с собой. Жизнь моей прабабушки оказалась непростой. Мечтам о профессии учительницы не суждено было сбыться. Да, ей удалось закончить колледж, но позже отец настоял, чтобы дочь, как любая другая порядочная девушка того времени вышла замуж, и даже подобрал ей достойную по его мнению партию. Это был военный офицер Чарльз Эвенсон. Сначала все было неплохо. Эсми старалась быть хорошей женой, но особой любви к супругу не чувствовала. Началась Первая Мировая война и он, как и остальные солдаты ушёл на фронт, а вот вернулся он совершенно другим.
«Я была искренне рада видеть его живым и здоровым. Многим вокруг повезло меньше. Только вот постепенно до меня доходило осознание того, что Чарльз изменился. Он плохо спал по ночам, ему снились кошмары. Часто вставал и молча уходил куда-то, игнорируя все мои вопросы. Потом стало хуже. Он отчуждённый, холодный, его кажется не интересует ничего вокруг, но временами, на него находит ярость. Тогда его взгляд становится совершенно диким. Он начинает расшвыривать вокруг себя все: посуду, мебель, вещи. Мне страшно. Я не в силах предугадать следующий его приступ».
Сейчас такое называется посттравматический военный синдром. Я и раньше слышала, что у людей, прошедших войну, ломается психика. Сейчас это лечится, но во времена жизни Эсми психиатрия была скорее методами пыток, чем реальным лечением. Так что состояние мистера Эвенсона только ухудшалось.
«Когда он ударил меня первый раз, я даже практически не почувствовала боли, настолько я была шокирована этим. Он разозлился на какую-то мелочь: неубранную кружку на столе, пятно на скатерти, на лай собаки за окном. Иногда мне кажется, что само мое существование раздражает его. Как мне хочется просто избавить его от своего присутствия. Вернуться обратно в родительский дом, а еще лучше жить самостоятельно. Я просто не могла взять и уйти, ни мать, ни отец не поддержат меня, особенно узнав, что я беременна».
Прочитав эту строчку, я невольно вздрогнула, прекрасно понимая, в какую сложную ситуацию попала Эсми. Живя с деспотичным мужем без поддержки родственников и возможностью осуждения общественности если она уйдет от мужа. Ловушка, а не жизнь, и при этом успевать заботиться о будущем ребенке. Читая дальше я не могла ни восхищаться смелостью и несклоняемым характером прабабушки. Она не стала терпеть дальнейшие издевательства мужа и равнодушие родственников. Благо среди всех был один единственный, который прислушался и поверил Эсми, ее двоюродный брат.
«Как можно незаметнее я скопила немного денег и собрала минимум вещей. Уходить в ночь, в неизвестность, не имея практически ничего было страшно, но оставаться здесь еще страшнее. Ледяными ладонями сжимала ручки сумки и шла вслед за братом. Я приказывала себе не дрожать от каждого шороха и не отскакивать от каждого проходящего мимо мужчины, лишь надеяться и молиться, что нам удастся уехать достаточно далеко прежде чем Чарльз начнет мои поиски, а в том, что он не оставит меня в покое я не сомневаюсь».
От того, что я только что прочитала мое сердце стучало, как бешеное, так что воздуха в легких не хватало. Мне было страшно представить каково было Эсми в тот момент. Я и не знала о таких событиях в ее жизни. Последние годы прабабушка жила в родительском доме в Колумбусе. О прадедушке Чарльзе практически не говорили, лишь упоминая, что он умер достаточно молодым. У прабабушки родился мальчик. Я знала, также, что малыш чуть не умер, заболев лихорадкой. Во второй раз дневник дрогнул в моих руках, когда я снова увидела в нем знакомое имя:
«Я готова поверить в то, что доктор Каллен стал моим ангелом-хранителем. Его появление было настоящим чудом. В первое мгновение я даже не поверила, что он стоит передо мной, а осознав, буквально упала на колени, взмолившись, чтобы он спас моего сына.
Сам доктор Каллен, казалось также как и я не ожидал меня увидеть. Я до сих пор помню его прикосновения к своим плечам, когда он бережно поставил меня на ноги. Как его ладони легко прошлись по моим рукам, обхватывая ладони. Его ладони были прохладными, но я ощутила, как меня бросило в жар.
Его слова: «Не волнуйся, Эсми, Я сделаю все что в моим силах», — и он выполнил своё обещание. Мой сын был вне опасности, и я разрыдалась от облегчения, прямо на его плече. Благодаря о том, что спас жизнь не только Джозефу, но и мне. Потому что я была уверена, что не проживу и дня, если сын не выживет.
«Не плач, Эсми, с тобой и твоим сыном все будет хорошо», — немного грустно улыбаясь, успокаивал меня доктор Каллен и сердце сжалось от тоски в предчувствии, что я вижу доктора Карлайла Каллена последний раз в своей жизни. Я подняла на него взгляд. Мне так не хотёлось прикоснуться губами к его губам, всего на секунду. Вложить в этот поцелуй всю нежность, благодарность и все ту любовь, что я испытывала к этому нет не просто мужчине, а моему ангелу. Он словно прочитал мой порыв по его взгляду и сам склонился ко мне, словно ребёнка поцеловал в лоб».
Когда я читала эту сцену меня словно пробило током. Перед глазами возникла та сцена в автомобиле доктора Каллена. Тогда он похоже поцеловал меня в лоб, твердя слова о том, что теперь у меня все будет хорошо. Я выдохнула и отложила дневник, вытерла слёзы навернувшиеся на глаза.
— Детка, что это ты так расстроилась? — полюбопытствовала миссис Лэнг.
— Ничего, — замотала головой, совершенно не желая посвящать любопытную соседку в подробности жизни прабабушки. Взглянув на дисплей мобильного меня интересовал совершенно другой вопрос. Насколько я помнила, то ко мне уже должна была прийти медсестра, взять анализ и проверить все, что полагается проверить перед операцией, но было такое ощущение, что про меня все забыли.
Мне стало как-то не по себе от этой мысли, от какого-то неприятного покалывания в груди, и когда я уже решилась пойти самой поискать доктора Шепарда, он появился в дверях. На этот раз на его лице не было раздражающей меня улыбки и от этого стало ещё больше не по себе.
— Дженнифер, нам нужно поговорить. Ты не можешь пройти со мной в кабинет?
— Конечно, — я тут же нащупала ступнями тапочки.
Идя вслед за доктором мне казалось, что я ловлю на себе сочувствующие взгляды окружающих. Я замотала головой, чтобы избавиться от этого неприятного чувства, но помогало мало. Когда доктор Шепард, пригласил меня в кабинет и сам зашёл следом, закрывая за собой дверь, мне стало как-то совсем неуютно и зябко. Я обхватила себя руками.
— Присаживайся, — указал он на стул.
— Нет, спасибо. Я постою.
Доктор не стал настаивать и сам сел за стол. Он стал суетливо раскладывать какие-то бумаги, поправлять органайзер с различной канцелярией. Пауза затягивалась, создавая ещё больше напряжение, и я не выдержала:
— Доктор Шепард, давайте на чистоту. Что случилось?
— Дженнифер, этот разговор вообще не должен быть между нами. По правилам, даже по закону, я должен был дождаться приезда хотя бы одного из твоих родителей, но…
— Они очень заняты и смогут приехать не раньше, чем через несколько часов, — продолжила я фразу врача. — Если вас это удивляет, — пожала плечами, — то для меня это давно не новость. Так что, доктор Шепард, давайте на секунду представим, что мне уже есть восемнадцать?
— Хорошо, — согласился он. — В принципе я и пригласил тебя для того, чтобы все объяснить. Потому, что держать тебя в неведении и заставлять ждать операцию ещё несколько часов это очень жестоко.
— Так, что-то случилось с сердцем?! — шагнула я в сторону стола. — Оно мне не подходит и операция отменяется?! — голос невольно дрогнул на последнем слове.
— Дженнифер, понимаете, в очереди на пересадку место зависит от тяжести состояния.
— Да, вы рассказывали об этом и сказали, что я буду одной из первых. Разве не так? — подняла я взгляд на доктора Шепарда.
— Да, но, — несколько смутился врач. — Иногда появляется пациент, который просто не может ждать. Там речь уже идёт не на месяцы, а на дни. В этот раз произошло именно это. Появился более тяжелый пациент и ему сердце понадобилось раньше. Такое происходит редко, но…
Он развёл руками. Я же не удержалась от нервного фырканья:
— Также редко, как два пациента с недостаточностью сердца с одинаковой группой крови.
— Мне очень жаль, Дженнифер, но обещаю, продолжим искать новое сердце, и как только найдём…
— Сколько?! — не выдержав, повысила я голос.
Сейчас мне было хуже, чем до этого, и дело было ни в физическом состоянии. Подарить надежду на то, что я выйду из больницы полностью здоровой, а потом отнять это, все равно что подать человеку руку, а потом толкнуть обратно в пропасть.
— Трудно сказать, — покачал головой доктор Шепард. — Донорство это не что-то точное. Сейчас мы сделаем тебе капельницу с поддерживающими препаратами, которые поддержат твоё сердце и будем надеяться, что в ближайшие полгода найдём подходящего донора.
«А если нет?», — хотелось спросить мне, хотя я прекрасно знала ответ. Я чувствовала, как мне становится холодно, так, что тело начало бить дрожь, на глаза навернулись слёзы и от истерики меня сдерживала только гордость. Я не хотела больше слушать оправданий и увещеваний доктора Шепарда, не хотела оставаться в этих стерильных и равнодушных к чужому горю стенах ещё хоть минуту. Быстрыми шагами я направилась к двери.
— Дженнифер, стой! — окликнул он меня. — Я помогу, чем могу.
Я чуть было не рассмеялась. Сжав ладони до побелевших суставов, я резко развернулась к доктору Шепарду:
— Поможете, чем можете?! — ядовито спросила я, прищурившись. — Хотите сказать, что вы сейчас вырвете своё сердце и вставите его мне?
Доктор Шепард смотрел на меня широко распахнутыми то ли от страха, то ли от удивления от моей наглости глазами и медленно покачал головой.
— Тогда вы ничем не можете мне помочь, — прошептала я, резко развернулась, так что на миг перед глазами все поплыло, а голова закружилась, но не дав себе слабину вышла из кабинета.
Хотелось только одного, как можно скорей покинуть больницу. Когда я вернулась в палату, то старалась не смотреть в сторону семейства Лэнг, идеалистическая картина раздражала и будила чувство зависти. Я же ощутила себя бесконечно одинокой. Пожалуй, даже если мое сердце сейчас замрёт, вряд ли кто-то это заметит. Ощущение ненужности и бесполезности накрыло с головой, душило, давя на грудь и казалось заставляя сердце стучать ещё неохотней.
Через час ко мне пришла медсестра неся капельницу. Сил и желания сопротивляться не было никакого поэтому я послушно дала свою руку на растерзание, лишь немного поморщившись, когда капельницу поставили. В желании хоть как-то то отгородиться от всего окружающего мира и собственных мыслей, я взяла телефон. Значок непрочитанного сообщения удивил, а открыв его не смогла не улыбнуться. Писала Матильда, спрашивая, когда к ним вернётся их альбинос-крокодил.
«Раньше, чем планировала», — отписалась я.
«Что-то случилось?», — тут же отозвалась Матильда.
«Нет, ничего», — ответила я, помочь они мне ничем не смогут, а заставлять за себя волноваться не хотелось. — «Просто пока они ничем не могут мне помочь. Так что передай Питеру, что ему не долго осталось собирать все лавры».
Было приятно, что все же есть люди которым не все равно, и буря отчаяния и одиночества немного утихла. Даже дышать стало легче, или это от лекарства. Я посмотрела на стойку с капельницей, а потом и на руку. Ту неприятно жгло, а место где вошла игла заметно припухло и покраснело. Этого мне не хватало для полного счастья. Решив, что заработать какой-нибудь анафилактический шок мне не особо хотелось, несмотря на всю пессимистичность, отправилась искать медсестру. Искать долго не пришлось. Медсестра, точнее две, стояли возле поста и что-то увлечённо обсуждали. Не скажу, что я была идеалом тишины и хотела подслушивать их разговор, но как-то само получилось, что последние сказанные слова заставили меня замереть:
— Не повезло девчонке, сердце увели прямо из-под носа, говорят досталось она жене какого-то политика.
— И что?
— А то, за то чтобы девчонку подвинули, заплатили не маленькую сумму.
— Ну, это всего лишь слухи, — махнула рукой та. — Вы, что-то хотели? — заметила меня одна из медсестёр.
Вторая, которая как раз и сказала эту фразу, стоящая ко мне спиной, вздрогнула и обернувшись выглядела смущенной, а может быть виноватой, что убедила меня в том, что говорили они обо мне.
— Да, — выдавила я из себя, показав руку, у самой же до сих пор в голове крутились слова о сердце. Неужели все так просто. Кто-то более важный или богатый и заберёт сердце и жизнь. Стало противно, горько и как-то бессмысленно.
— Пойдёмте в палату, — указала мне направление медсестра. — Я поправлю капельницу. У вас есть аллергия на лекарства?
— Все указано в карте, — пожала я плечами.
Говорить не хотелось. Я не могла дождаться утра и возможности уйти отсюда. Теперь я уже не верила здесь никому.
Медсестра сняла капельницу, дала мне антигистаминное средство и попросила больше не вставать. Я и не собиралась. Хотелось просто заснуть без снов и проснувшись утром, узнать о том, что все это был кошмар.
***
Я сидела на кровати в своей комнате и смотрела на стены, увешанные грамотами за места в музыкальных конкурсах и в учебе, фотографиями и даже какими-то детскими рисунками. Вернувшись из больницы несколько часов назад, до сих пор не могла прийти в себя. Не могла осознать реальность, вокруг был какой-то туман, вакуумный мешок, словно отрезающий меня от реальности. Когда за мной приехал отец, доктор Шепард рассказал ему то же, что и мне вчера, а я стояла рядом сжимая ладони в кулаки и борясь с желанием закричать, что это все ложь, что он просто продал мое сердце, но лишь глубоко вздохнула.
Когда мы сели в машину, я очень долго смотрела в окно перед тем как решиться:
— Я хочу сменить врача.
— Что? — посмотрел на меня отец. — Это ещё почему?
— А что, отложенная операция для тебя не аргумент? — спросила я, впрочем ни на что толком не надеясь.
— Он же в этом не виноват, — пожал отец плечами.
— А если я скажу, что виноват? — повернулась я к нему всем корпусом, не обращая внимание на то что ремень безопасности неприятно врезается в грудь.
— Откуда тебе знать? — фыркнул с сомнением он.
— Говорят…
— Ну, мало ли что говорят, — протянул отец с таким видом, что я сразу поняла, что все что я сейчас не скажу не будет иметь никакого значения.
Впрочем, это было неудивительно, отец был из людей, который привык доверять наделённым властью и определенными знаниями людьми. Даже если бы врач прописал бы ему пить мышьяк, он бы не поставил бы это под сомнения, что уж говорить обо мне.
Я замолчала.
И вот теперь сидя в комнате и рассматривала всю эту пеструю галерею развешенную по стенам когда-то важных для меня достижений. Меня пробило на смех. Кому теперь нужны эти бумажки? Кому нужны мои мечты? Планы на будущее? Которого нет!
Жизнь дала мне пинка под зад. Хорошего такого пинка, после которого я не чувствовала в себе силы, чтобы подняться, чтобы бороться. Все в моей душе ломалось и крошилось, рушила боль не физическая, а та что внутри мешала дышать полной грудью. Хотелось кричать в голос, просто выть и ломать, ломать все вокруг.
«Да, какого черта!», — я вскочила на ноги и подошла к первой стене. Руки словно сами срывали грамоты и фотографии, плакаты и рисунки. Пальцы сжимали, мяли, рвали все это на мелкие кусочки, в яростном желании уничтожить. Вскоре пол был засыпан разноцветными обрывками, стены же пугали высветленными пятнами ровных прямоугольников и квадратов. Я опустилась на кровать, также как все вокруг усеянной обрывками моего будущего. Слез не было, ярости больше не было, была вязкая и глухая апатия.
Даже громкое материнское «Ах!», — не сразу достигло моего сознания.
— Что тут произошло? — в голосе зазвучало удивление.
Я усилием воли заставила себя сесть и просто пожала плечами:
— Похороны. Правда пока не мои, а моих мечт.
Мама нахмурилась, ещё раз обведя комнату взглядом, в котором ни на миг не проступило сочувствие, лишь озабоченность и непонимание.
— Нечего психовать, тоже мне маленький ребёнок, — хмыкнула она. — Приберись тут.
— Да, — не ожидая сочувствия ответила я, и встала. — Схожу за мусорными мешками.
— Там ещё привезли какой-то свёрток на твоё имя, от кого не написано.
Свёрток мне? Я спустилась вниз и действительно увидела у дверей довольно внушительную коробку. На висевшем на ней бланке было мое имя и адрес, но от кого была посылка не указали. Любопытство все же победило и я стала открывать коробку, увидев в ней знакомые очертания, почувствовав запах, сначала не поверила своим глазам: в коробке был футляр и судя по его форме в нем лежала виолончель. Я не стала терять время и оттащила коробку к задней двери. Лишние вопросы от родителей и брата мне были сейчас абсолютно ни к чему. Убедившись, что все заняты своими делами и никого в этом доме не интересую ни я, ни то чем я занята, открыла коробку и достала футляр.
Ладони заскользили по гладкому материалу кейса, я вдохнула его запах, который казалось должен был быть забыт, но на деле въелся в память так глубоко, что мне казалось я узнаю его и через сотню лет. Я взялась за один из замков. Рука дрогнула не решаясь его открыть и заглянуть во внутрь. Хотя прекрасно знала, что там лежит.
— Что там? — как эхо моим мыслям послышался голос мамы.
— Ничего интересного, — резко обернулась я.
— Да, ладно? — мама не стала меня дальше слушать она, а просто подошла ближе.
— Это похоже на…
— Виолончель, — тихо продолжила я.
— Это ты ее купила? — посмотрела она на меня. — Неужели ты до сих пор не поняла, с твоим здоровьем, особенно на сегодняшний момент, какие могут быть выступления.
Я часто заморгала не в силах поверить в услышанное, то есть, когда мне отменили жизненно важную операцию, они с отцом просто отмахнулись, сказав, что доктор Шепард обещал найти нового донора, и ничего катастрофического не произошло, а как только вокруг замаячило хоть что-то связанное с музыкой, то моя мама сделала стойку охотничьей собаки и выдала, что оказывается я смертельно больна. Я лишь устало вздохнула:
— Ма, я еще не смотрела, что там внутри, может это чья-то шутка и это просто пустой кейс.
— Вот сейчас и посмотрим, — она взялась за замки и без лишней медлительности, просто открыла футляр.
Когда я увидела это чудо, то на секунду задержала дыхание. Эта виолончель была буквально произведением искусства. Размер плавность линий, блеск поверхности дерева. Я почувствовала как кончики моих пальцев закололо в нетерпение взять лежащий рядом, в специальном углублении смычок и помочь ей запеть.
— Дорогая вещица, — привычно опустив меня на землю, приобщая к материальному, констатировала мама. Пусть она не разбиралась в музыке, но отличить дорогую вещь от дешевой на глаз могла с легкостью.
Я бы могла добавить, что это не просто дорогая вещь, а выполненная на заказ, но у меня не было ни малейшей догадки кто мог при поднести настолько шикарный подарок.
— Ну, раз ты не имеешь к этому никакого отношения, то продать это и выручить немного денег из бесполезного подарка будет не лишним.
Слова протеста застряли у меня в горле. Я смотрела на маму и не могла решить для себя, то ли она и отец намеренно обходятся со мной столь черство и жестоко, то ли просто не замечают этого. В их вселенной все просто и легко. Все что не приносит денег и пользы — ненужный мусор. Все это не ценнее какой-нибудь безделушки, стоящей на каминной полке, фигурки смешного пса, кивающего головой на приборной панели автомобиля. Глубоко вздохнув я заставила себя успокоиться. Может именно сейчас мама с ее практичном и меркантильном подходе права. К чему мне виолончель, чтобы она была задвинута в угол шкафа и пылилась в темноте вечном молчании.
— Как знаешь, — пожала я плечами, стараясь чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Взяла из ящика стола пакеты для мусора и отправилась к себе, собирать осколки и обрывки собственной жизни.
Закончила я, когда уже все в доме спали. Мне же не спалось. Я вынесла мусор на задний двор и нашла взглядом бочку, где обычно жгли опавшую листву, будет большой костёр. Я подтащила два пакета, в которые поместилось все, что осталось от наград и грамот и вытряхнула в нее. Вернувшись в дом за спичками, я споткнулась о виолончель. Снова проведя руками по футляру. Я не могла устоять перед соблазном хоть один единственный раз поддержать ее в руках. Вытащив инструмент во двор, я села на скамейку, облокотив инструмент на нее. Фонари у дороги, да садовые фонарики, расставленные вокруг крыльца, давали слишком мало света, так что я без какой либо жалости чиркнула спичкой и бросила ее в бочку. Огонь медленно разгорался, потрескивая. В его неровном пламени я рассматривала виолончель, легонько провела по ней пальцами, запоминала ощущение под ними.
Глубоко вздохнув, я прижала виолончель к себе, взяла смычок и закрыв глаза, провела смычком по струнам. Виолончель завибрировала, передавая эту дрожь мне. Первый глубокий звук прорезал ночную тишину. Я не задумывалась, что играю, музыка сама вела меня за собой, порождая вокруг волшебство, заставляя забыть о том сколько времени, о том что вокруг уже многие в соседних домах и в моем доме спят. Это все не имело никакого значения. Я растворялась в мелодии, в движениях, в своем прошлом, когда я не знала, что все обернется так, что все пойдет прахом.
Слезы полились по щекам, капая на инструмент и портя мелодию. С каждой секундой дышать становилось все сложнее, руки дрожали, заставляя фальшивить. Сердце билось быстро, голова кружилась и я остановилась. Откинувшись на спинку скамьи я отдышалась, стирала слезы с лица. Я смотрела на откинутую в сторону виолончель. Этот инструмент был идеальным, словно созданным для меня. Кто бы не решил подарить мне его, то невольно сыграл со мной злую шутку. Ладонь сжимала смычок так что он больно впивался в кожу. Раздался треск, и вот уже в моей руке два обломка.
«Смычок хрупкий — он может сломаться», — предупреждала меня учительница по музыке.
Я тоже оказалась хрупкой. Желание выкинуть его в огонь пришло внезапно как удар молнии. Я с каким то садистским удовольствием наблюдала, как языки пламени жадно сжирали смычок. Оглянулась на инструмент, лежащий на земле. Где-то в глубине на секунду возникло что-то похожее на протест, на неверие, что я действительно смогу уничтожить такую красоту, такое совершенство. Музыкант уничтожающий музыку, — злая ирония. Руки не дрогнули, когда я вслед за смычком отдала огню и виолончель, смотря на ее агонию: на то как обрываются струны, чернеет корпус, как скрипит дерево. Она словно кричала, не понимая, за что такая жестокость.
— Не за что, просто жизнь жестока, — прошептала я, давясь рыданиями.







































































 вы можете рассказать о себе и своих произведениях немного больше, создав Личную Страничку на сайте? Правила публикации читайте в специальной
вы можете рассказать о себе и своих произведениях немного больше, создав Личную Страничку на сайте? Правила публикации читайте в специальной